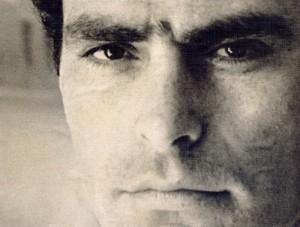– Где и когда вы родились, Виля?
– Это было давно, в 1931 году, в городе Каменце–Подольском, бывшая черта оседлости. Вы знаете (смеется), существует заблуждение, что евреи вышли из Египта. На самом деле они вышли с Украины. Когда мне было два с половиной года, родители переехали в Москву, где я и вырос. Так что вполне обоснованно осознаю себя москвичом.
– В какой семье довелось родиться?
– Ассимилированная семья. Мама была пианисткой, играла в городском оркестре. Потом она работала бухгалтером и музицировала немного. Отец был ярым комсомольцем. В Москве он поступил в Институт востоковедения на китайское отделение. На третьем курсе его мобилизовали в ГБ, сказав: «Или пойдешь служить, или партийный билет на стол». В это время началась Великая Отечественная, и он ушел добровольцем на фронт, причем его взяли не сразу, он долго этого добивался. На фронте он попал в кавалерийскую армию Доватора, он был хороший конник. Отряды Доватора заходили в тыл к немцам и создавали видимость партизанского движения. Когда закончилась война, он был уже в звании майора КГБ.
– Так он служил в армии в КГБ?
– Он был в СМЕРШе, естественно. Там было много эпизодов, которые помогли ему сохраниться духовно. Он, например, выкрал начальника полиции города Ветка – русского. Их было трое, и им дали за операцию по ордену. Правда, отцу дали орден пониже, чем остальным. Так он впервые столкнулся с антисемитизмом на армейском уровне. Я это запомнил.
– Послевоенные антиеврейские кампании 49-52-го годов его как-то затронули?
– Его к тому времени уже вышибли из ГБ. Ему, если так можно сказать в данном случае, повезло, потому что меня арестовали в 50-м году, и он был автоматически освобожден по служебному несоответствию.
– За что вас арестовали?
– Мы хотели бежать в Израиль. Там была война за независимость, нам было по 19 лет… Мы задумали побег на Юге, через речку Чарох, это целая история.
– Вы уже учились в институте?
– Да, на третьем курсе Архитектурного института.
– Как вы пришли к идее побега?
– Я думаю, антисемитизм, который я испытал и в эвакуации, и в Москве: Гитлер преуспел в этом деле. Мы пришли к такой простой и ясной мысли, как сионистское решение «еврейского вопроса». Мы заново изобрели для себя сионизм.
– Вы ведь, наверное, не один…?
– Нас было трое. Мы были школьными друзьями, обсуждали между собой, говорили: Рома Брахтман, он сейчас в Нью-Йорке, Миша Маргулис – живет в Иерусалиме, и я.
– Их тоже посадили?
– Конечно.
– По какой статье?
– 58-1а, это измена Родине – до расстрела. Кроме того, были статьи 58-10 – антисоветская агитация, направленная на подрыв советской власти, и 58-11 – «групповщина», поскольку нас было трое. Но им троих было мало, они хотели расширить круг, чтобы получилось серьезное молодежное дело. Это было модно тогда – мы же попали в период борьбы с «безродными космополитами» и «беспаспортными бродягами». Вся Лубянка была забита евреями. Все этажи.
– Многие евреи поступали как вы?
– Причина была другая – это был сезон охоты. Евреев брали из министерств, среди них было довольно много крупных работников. Евреи не умели скрывать своих симпатий – вначале.
– Их выгоняли, потому что думали, что они не лояльны к советской власти?
– Ну конечно, пятая колонна. А потом, когда уже начали скрывать, было поздно, машина раскрутилась.
– Сколько времени продолжалось следствие?
– Около полугода.
– Вы признали свою вину?
– Мы трое признали свою вину. Но они хотели расширить круг, им надо было посадить человек десять-двенадцать. Тут они наткнулись на стену. Начались угрозы, мелкие физиологические ущемления, стали пугать пыточной тюрьмой в Суханово. Пыточная тюрьма – это действительно страшно.
– Настоящие пытки?
– Да. Я встречал людей оттуда. Однажды ночью дверь нашей камеры отворилась, и вошел старик Сильверсван – худой, как доска. Он рассказывал, что это такое. Его пытали. Что значит пытали? Его ставили в каменный мешок. Каменный мешок – это ниша в стене 50х50. Открывают металлическую дверь, заталкивают человека в эту нишу, захлопывают дверь. Перед лицом окно с решеткой, закрытое снаружи стеклом. Его ставили в этот мешок и несколько раз включали над головой мощную лампу. Человек так долго стоять не может. У него начинают распухать ноги – «слоновьи ноги», – пошевелиться невозможно и упасть невозможно, потому что колени упираются в эту дверь. Если человек теряет сознание, то открывается окошко, на него выплескивают холодную воду, чтобы пришел в себя, и пытка продолжается. Этот старик считал, что пробыл в «мешке» около двух суток. Когда его выволокли оттуда, он был без сознания. Это один из методов наказания. Другой метод – тебя привязывают голого к шведской стенке и бьют по спине чулками, наполненными песком. Отбивают почки, печень, человек становится полным инвалидом, и это – на всю жизнь. А следов на теле не остается: «великий патент КГБ». Если бы они пороли ремнями или резиновыми жгутами, то были бы следы, а песок в чулке мягко ложится на тело, и никаких следов.
– Кого они подвергали таким пыткам?
– По серьезным делам. По «делу врачей», например. Потом я встретил одного парня, который был связан с делом Масарика. Он тоже через это прошел. Это был советский асс, награжденный тремя орденами Красного Знамени. Нам было по 19 лет, уже в тюрьме мне исполнилось 20. Нам угрожали такой судьбой, но мы не готовы были говорить о наших друзьях, называть фамилии.
– Сколько вам дали?
– Нам дали немного, повезло – «червонец». По статье 58-1а нас должен был судить военный трибунал, и тогда бы нам дали по двадцать пять, но военный трибунал был просто забит делами, переполнен. Нас направили на особое совещание, так называемую «тройку». А особое совещание в то время не имело права давать 25 лет. Они могли «только» до 10. Я даже встретил человека, парикмахера, которому дали всего 5 лет: он в пьяной драке бросил бутылку и попал в портрет Сталина… Нам дали по 10 лет особых лагерей и разослали в разные места. Мишка попал в «Дубравлаг», Мордва, Ромка – в «Горлаг», Норильск, а я – в «Берлаг», Колыма. Это были спецлагеря, они были введены в 1950 году, и их было всего восемь на весь Советский Союз.
– Политические лагеря?
– Только политические. Туда иногда, по статье 58-14 – контрреволюционный террор, попадали крупные уголовники. Но у нас они не вели воровской образ жизни, им не на кого было опереться. Они работали как все или не работали. С воровской жизнью мы могли познакомиться только на пересылках и во время этапов.
– Как сиделось?
– Сиделось по-разному. Вначале очень тяжело. Зима 1951-52 была суровая, режим ужасный и, главное, не было жратвы. Я был на общих землеройных работах. Это тяжелая работа. «Доходили» там, в первую очередь, люди с хорошим физическим здоровьем. Я был гимнастом, третьеразрядником, на здоровье не жаловался. Я очень быстро «дошел». Организм требовал питания, а его не было. Была изнурительная 10-часовая работа на морозе, укрыться негде. Я очень быстро «дошел», стал «доходягой» и все такое… Спасли евреи. У меня был лагерный отец, Натан Забара, идишский писатель. И еще был Ирма Друкер, благослови, Боже, память его… Они выходили не на общие работы, а в конвойный гарнизон – обслуживали кухню, кололи дрова, мостили, делали работы по благоустройству, в общем, делали легкие работы. Повар с кухни выносил им что-нибудь поесть. Натан стал собирать в банку кашу и приносить ее в зону. Это было очень опасно, потому что перед входом в зону обыскивали, но он это делал так артистично, что у него не находили. Так что я потом каждый вечер мог получить порцию каши, и это меня спасло.
– Второй год был легче?
– Легче… Научились немножко жить в лагере, обтерлись, «обнюхались», как в лагере говорят. Научились осознанно переносить и голод, и холод. Это уже очень много. Потом мы с Фимкой Спиваковским пошли на прием к начальнику лагеря – такие приемы были раз в неделю – и сказали ему, что Фимка окончил экономический факультет Харьковского университета и что он может не только землю долбить, а я студент-архитектор третьего курса и могу работать в этой области. У них в лагере как раз была проектная «шарашка». Через две или три недели меня вызвали и сказали, что переводят туда. Сначала я работал в ночную смену. Было трудно, потому что пальцы не держали карандаш, не гнулись, но со временем чертить наловчился. Я проектировал разные офицерские дома, жилой поселок, и это было, конечно, намного легче.
– Вас пытались вербовать?
– О, да… Когда я работал в «шарашке», которая была филиалом Дальстройпроекта. Там работали одни заключенные. В основном латыши, литовцы. Они прекрасные архитекторы, инженеры и проектировщики. Руководил этим делом некто Яковлев, классный инженер, знал все европейские языки. Это было славное время, я многому у них научился – они же западные люди. Они смеялись надо мной, когда я рисовал всю эту «барóчную» фигню, но это был добрый смех… И тогда меня вызвал «кум», оперативник по-лагерному. Он начал со мной ласково так… что я, мол, отличаюсь от всех остальных, потому что я все-таки свой человек, а эти же все враги. Они и с немцами были, и среди них есть натуральные антисоветчики, которые с оружием в руках воевали против советской власти. Я все же бывший комсомолец, ну, поскользнулся… Мне они могут доверять, и… я могу сократить свой срок, но для этого надо иметь понимание, сотрудничать с ними, дальше от меня зависит. Откровенно так. А я тогда был уже отъетый, отпитый и… обнаглел, забылся, где нахожусь. Кроме того, у нас там компания была, я уже читал стихи Гумилева (за Гумилева срок давали, но были люди, которые помнили его наизусть), уже был и романтик, и гордый… Я его слушал, слушал, а когда он закончил, говорю: – Вот видите у меня на спине номер, – показываю ему, – и на коленях номер, – опять показываю ему, – это сегодня номер моего комсомольского билета. Почему вы ко мне обращаетесь? – Ах, вот ты какой! – говорит. – Какой? Я – простой, – отвечаю. – Ну, всё. По весне поедешь на трассу камушки ворочать. – А вот это вы можете мне не говорить. Меня ваши планы не интересуют. Я и так знаю, что моя жизнь мне не принадлежит, – говорю. На этом мы и расстались. Весной прибегает наш нарядчик, Иван Лазаревич, и говорит: – Вилька, ты в списке на этап. – Куда этап? – спрашиваю. – На страшное место – Касситеритовый рудник. Там добывают металл, из которого делают олово… Я ушел от этого этапа. Я спрятался, и они меня не нашли. В этом был риск пойти на второй срок, но так было лучше, чем идти на этот этап. Там продолжительность жизни была три месяца. Человек заболевал силикозом легких, его актировали, и он уходил умирать. Меня не нашли, потом начались какие-то события в зоне, и они даже забыли об этом. Они меня забыли, и я остался в той же бригаде, на том же месте… до следующего этапа.
– Вы от звонка до звонка?
– Не-ет, что вы. Иосиф Виссарионович умер 5 марта 1953 года. А потом начался период так называемого «позднего реабилитанса», и первыми ласточками из нашего лагеря были мы – я и Витька Красин.
– С воли помогли?
– Да, с воли. Это мой отец пошел в ЦК и обнаружил там какого-то своего старого приятеля, который работал дежурным по приему. Тот знал моего отца, его историю, они на фронте были вместе. Отец ему говорит: – Знаешь что, если ты не боишься рискнуть, дай это письмо «хозяину». Они между собой называли и Сталина, и руководителей после него – «хозяином». Тот говорит: – Знаешь, Лазарь, не боюсь, дам. И дал на подносе то письмо с малой почтой, так чтобы Никита мог прочесть. Никита развернул, прочел – я видел это письмо, оно фигурировало потом на переследствии – и в левом верхнем углу написал: «Разобраться. Хрущев». Нас снова вызвали на этап. Меня с Колымы везли четыре месяца в вагонзаках (вагон для заключенных), теплушках и пароходных трюмах – я же ехал от самой Америки. Ромка с Мишкой были уже в Москве. На меня следователь накинулся: «Где ты был, почему мы так долго должны тебя ждать?» Я ему говорю: – Вы что, с ума сошли? Это ко мне вопрос – где я был? Я что, к вам приехал что ли? Меня привезли! Я уже был другой, и они уже были другие, и разговор на переследствии тоже был другой… В результате они оставили наказание, но дали не десять лет, а пять, и в соответствии с амнистией для тех, кто получил до пяти лет, нас освободили прямо из зала суда. Мы вышли на Арбат в телогрейках. С нас только сняли номера – такие белые заплаты, на которых был номер, фамилий же у нас не было – со спины, правого колена и с шапки. У меня был номер И2-144. Белые заплаты с номерами сняли, но наши выгоревшие бушлаты и наши телогрейки несли четкие следы номера, который не выгорел. Это было смешно. И вот мы втроем на Арбате: какие-то троллейбусы, люди, женщины… мы же их не видели все эти годы, какие-то шубы, падал снег. Я четыре месяца перед этим сидел в одиночке… Было странно после Колымы очутиться на улице в Москве.
– Как начиналась ваша жизнь после освобождения?
– Вначале у нас был… шок. У Романа полегче, поскольку он натура витальная, а у Мишки потяжелее – его мать умерла, это пережить трудно. Мишка узнал об этом перед самым освобождением, на переследствии. Ему очень трудно было это пережить. У меня шок был другого свойства. Я стремился к одиночеству, никого не хотел видеть. Родители нашли место в стареньком санатории за городом, где отец был заместителем директора по хозяйственной части, и я там ходил по лесам, рисовал… Природа меня как-то восстановила, и я вернулся в жизнь. Все друзья из моего класса уже позаканчивали институты, и я подумал, что за всеми этими страстями я что-то упустил в своей жизни. Кроме того, мне грозила армия – 3 года службы. Только этого мне еще не хватало. Я приложил максимум усилий, чтобы восстановиться в институте. Мне повезло, замдиректора, профессор Блохин с пониманием отнесся к моей ситуации, у него самого брат сидел. Он меня спрашивал, как там в концентрационных лагерях, а я ему говорил, что в Советском Союзе нет концентрационных лагерей, а есть исправительно-трудовые. Он только заметил: «Да, да, я знаю…» Его брат погиб там. Но это были уже хрущевские времена, уже была написана книга Эренбурга «Оттепель». Меня восстановили, я же был амнистированный, то есть судимость с меня была снята. И все равно я воспринимал это как чудо и занимался впоследствии с удовольствием. В 1959 году я Архитектурный институт закончил.
– А когда снова проснулся сионистский зов?
– Вот это интересно. Мне трудно было жить в Москве. После того, что было, я не мог поверить в ценности этой жизни и тем более жить ими… Я не ахал, не радовался, не мог бегать в кино, заводить брюки «клеш». Меня не трогали все эти рассказы, эти страсти, женщины и девицы. Мне было очень трудно войти в это. Каждый по-своему переживал это возвращение. Некоторые выправились, вышли, я тоже вышел, а многие – нет. Витька Красин, например, так и не вышел из этого состояния. Когда после окончания института было распределения, я вдруг увидел, что есть места в Магадане.
– Вас так тянуло в Магадан?
– Да. Я тут же побежал и застолбился.
– Почему именно Магадан?
– Ведь я его строил, там мой пот, моя кровь, это мой город. Непонятно, да?
– Но это же север, цинга, тяжелый климат…
– Этот город чем-то напоминает Ленинград. Его строили ленинградские архитекторы. Его проектировал Либковский, ленинградский немец. В начале войны его взяли, дали ему расстрел, потом заменили его десятью годами, и он попал туда. Прекрасный человек. Я очутился в Магадане и увлек туда еще четырех своих сотрудников. Магадан – это в основном бывшие заключенные. Там жило тогда 30 тысяч человек. Я был главным архитектором проекта и чувствовал себя в этой обстановке очень хорошо. Говорю секретарше, что еду на трассу, а это поощрялось, и еду в свой старый лагерь, которого уже нет. В наших бараках уже живут комсомольцы, но и мои ребята тоже там. И я встречаю все эти мои любимые рыла, идем в буфет, столы уже накрыты. Буфет тут же закрывается на учет, и дальше я уже ничего не помню. На следующее утро берем машины, едем на Теньку и гужуемся. Это была жизнь, это я мог понять. Конечно там и комары, и слепни и все такое, но… Любил ездить на сенокос, на полтора-два месяца, там была наша бригада, 12 человек. Это были лучшие дни моей жизни, что говорить…
– А когда начался сионизм?
– Я в Москве бывал каждый год, иногда по два раза в год. Ездил и в Ленинград. Мы делали экспериментальное проектирование, и это были командировки. Я встречался там со всеми ребятами и знал всю ситуацию – и еврейскую, и правозащитную.
– Не боялись поддерживать с ними отношения?
– Как же, боялся! Я брал у них всю литературу, самиздат, привозил на Колыму. Мы впервые прочитали тогда Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», у нас волосы дыбом вставали, глаза открывались. Лагерной ненависти недостаточно, нужно понимание. Ненавидеть советскую власть, смеяться над ней – этого мало. Нужно понимать, что это. Понимание пришло потом.
– Отсидка вас в животный страх не вогнала. Есть люди, которые после таких вещей начинают всего бояться.
– Н-нет, мы были слишком молоды. Ни меня, ни Мишку, ни Ромку. Ромка пошел потом другим путем. У него был так называемый польский вариант. В 1959 году, когда я кончал институт, он уезжал в Варшаву.
– У него были там родственники?
– Нет, он женился, и у них родился ребенок.
– И он через Варшаву в Израиль?
– Ну конечно.
– А потом из Израиля в Америку?
– А из Израиля в Америку.
– Израиль ему не понравился?
– Не то слово. Он очутился в Израиле в 1961 году. В Польше нужно было еще развернуться, чтобы выехать. Это тоже было непросто, но возможно. Обстановка в Израиле была тяжелая. Понятия «узник Сиона» еще не было. Никто ему по прибытии руки не потянул. Он пошел работать в порт грузчиком, жить было негде. Им дали жестяной сарай, который раскалялся на солнце. Они лили воду на пол, чтобы хоть как-то охладить его изнутри. Родился второй ребенок, жизнь превратилась в ад. В Нью-Йорке у него оказался дядя, который дал за него заклад американскому правительству и вызвал его туда. Потом он получил гражданство. В Америке его быстро нашли, быстро подхватили. Им стала интересоваться разведка, он стал работать комментатором на радио «Свобода». В Израиле им никто не интересовался.
– Так вы перебрались в Магадан, но оставались при этом в курсе всех московских дел?
– Абсолютно, я стоял у истоков движения гражданского сопротивления. Там была кампания: Миша Калик – режиссер, Миша Марголис, Толя Якобсон…
– К Хронике* вы отношение имели?
– Имел. Но я не составлял Хронику, а занимался больше еврейскими делами…
– То есть вы были больше сионист, чем диссидент?
– Я диссидентскими делами не занимался. Я их очень любил, я им очень сочувствовал, это все были мои друзья, на диссидентских делах мы были воспитаны… Не только я, но и Меир Гельфонд*, и Давид Хавкин.
– А Гельфонда вы знали?
– Не только знал, мы с ним действовали вместе.
– Когда он сидел?
– Он сидел в наше время на Воркуте. Мы пересеклись, когда он уже переехал в Москву,
– Он сидел по тем же статьям?
– Абсолютно. У них была еврейская молодежная организация СЕМ – Союз Еврейской Молодежи. Лела Файвелис, сейчас она Резникова и живет в Реховоте, была в лагере вместе со мной. То есть она была в женском лагере, а я в мужском, но это был один и тот же лагерь – 19-е лаготделение. Они были с другой стороны трассы. Однажды меня вывели в женский лагерь под конвоем как специалиста, который должен был определить, рушится или не рушится пекарня. И там мы познакомились. Потом она вышла к нам в лагерь в качестве электрика. Потом мы переписывались.
– Сколько лет вы проработали на Колыме?
– Я уехал оттуда в 1967 году. После тюрьмы проработал еще восемь с половиной лет вольным… Я вернулся сразу после Шестидневной войны. В день начала войны я шел по парку в Магадане, смотрю – стенд с «Правдой» стоит, перед ним народ: опять Израиль, опять агрессор. Я тоже встал… и вдруг почувствовал – я не могу здесь больше жить. Это же несерьезно, ну чем я занят, зачем я прожигаю свою жизнь? Надо что-то делать. Сказал жене…
– А когда вы поженились?
– В 1960 году, на Колыме. Моя жена там работала, она сама из Крыма, окончила геологический факультет и занималась там вечной мерзлотой.
– У вас много детей?
– Двое. Сколько можно было жить в этой стране, когда есть свой народ, есть судьба… Мы решили поехать в Москву, там кипит духовная, политическая жизнь.
– С чего вы начали после возвращения в Москву?
– Прежде всего, я начинаю искать по Москве прежних знакомых… Благодаря моим старым лагерным связям я нашел много ребят евреев и неевреев – бывших зэка – и увидел, что происходят очень интересные процессы. Прежде всего, меня поразило количество появившегося самиздата. Перепечатывались целые книги – ночью, тайно… их передавали друг другу. Появилась колоссальная литература, которая… стреляла прямо в сердце. Самиздат сделал великое дело. Он действовал на людей, как освежающий эликсир. Люди очнулись от обморока, поняли, где они живут, как они живут, кем они стали и кто они такие.
– Из вещей того времени что-нибудь приходит на память?
– На меня произвели впечатление «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева. После этого я стал читать все, что попадалось бердяевского. Потом возник Жаботинский… фельетоны Жаботинского. Когда я прочел эти фельетоны, я ошалел… Это для нас… это для меня стало молитвенником. Было в них столько правды, мудрости, силы, энергии, мужества, что мы захлебывались. Это не фельетоны, это мощные эссе, которые и сегодня… читаешь, и это все работает. Я печатал их по ночам. Появились отрывки из «Автоэмансипации» Пинскера, появился перевод израильских изданий «Макора», Гельфонд его переводил… Вначале я столкнулся с нееврейским движением. Я столкнулся с крымскими татарами, баптистами, демократами. Среди них были мои лагерные друзья – Витя Красин, Петя Якир. Я знал Григоренко, Габая, Амальрика, Пашу Литвинова… бывал у них дома.
– Как вы решили для себя вопрос взаимоотношений с демократами?
– Я спорил с ними. Я пытался доказать Якиру, что то, что они делают, это очень хорошо, но Якир там не должен быть. Сарра Лазаревна, мать Якира, на меня наступала: «Что ты делаешь! Тебе недостаточно, что он связался с демократами, которые идут против советской власти, ты ему хочешь еще еврейство навязать, чтобы он шел в тюрьму сразу по двум статьям?» Знаешь, как в том анекдоте, когда негр читал в нью-йоркском метро газету на идише… Я хорошо знал Толю Якобсона и Надю Емелькину, которая вышла на защиту Володи Буковского. Я Володю хорошо знал. Я был поражен, как он вышел из тюрьмы и тут же, безо всякого перерыва, стал очень активным. Оказывается, он сделал докторат о психушках и передал его на Запад… и это стало греметь, и он снова попал в тюрьму… Я все это видел и очень неплохо знал. Когда начался процесс Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лажковой, по рукам ходило письмо, и, как Леня Васильев говаривал, «как честный человек я его подписал». Это письмо стало известно как письмо ста семидесяти. Я подсчитал – среди подписавших было около семидесяти процентов евреев. Тогда я пошел к Литвинову: «Паша, – говорю, – что же ты делаешь, одни евреи… как так можно?». Паша улыбнулся и ответил: «В борьбе за человеческое достоинство и честь не имеет значения, еврей ты или нет. Имеет значение только – ты можешь платить или нет». Я написал на эту тему статью.
– Как вы вышли на сионистские круги?
– Первым серьезным человеком, который действовал в ситуации шестьдесят седьмого – шестьдесят восьмого годов, был Хавкин. Наши отношения стали хорошо развиваться с моего первого визита к нему, когда я ему сообщил, что ОВИР начал прием документов не от прямых родственников. Это целая история… Летом 1968 года поехал я в Киев к моему духовному отцу Натану Забаре, который мне в лагере кашу приносил. Я его любил, он был для меня как отец. Забара сказал: «Вот тут ходят ко мне молодые евреи, я хочу тебя с ними познакомить, может быть, ты будешь им полезен». – «Что за молодые евреи?» — «Я их ивриту учу, то… се».
– Он обучал ивриту в Киеве в 1968 году?
– Да. Он идишский писатель. Иврит у него был слабее, чем у Друкера, но все же… Сейчас вышла его книга «Агалгаль ахозер», мы ее издали. Натан познакомил меня с Геренротом, Женей Бухиной, Койфманом, Амиком Диамантом… всей этой компанией. Меня пригласили в лес, и там были израильские песни, и там были пляски, и там была музыка… Хора!.. Я чуть с ума не сошел. В Москве ничего такого не было. Среди них был один лагерник, Алик Фельдман – с ним у меня был общий язык. Я смотрю: что такое? – меня прямо зависть взяла… такой Киев! Я говорю Алику: «Я в Москве не вижу такого». А он мне: «Я дам тебе телефон моего друга. Я с ним в лагере был. Его зовут Давид Хавкин».
Я приехал, звоню, никто не отвечает. Звоню Алику, он мне дает адрес. Прихожу – там ремонт… что такое?… Потом звоню еще раз – поднимается трубка. И я пошел к нему… А прямо перед этим произошло одно очень интересное событие. Из Харькова приехал Фимка Спиваковский и говорит: «Мы здесь сидим, а Рига едет в Израиль!» — «Какой Израиль, – говорю, – ты что?.. При Сталине тоже старики ехали, ну и что? При чем здесь Рига?» – «Нет, – говорит Фима, – рижский ОВИР начал принимать документы! Лида мне сказала». С моей подругой Лидой Словиной они были друзьями, в школе вместе учились, в эвакуации еще. И мы с ним пошли в ОВИР.
Пришли туда, пусто… пустые залы, сидят двое каких-то, просятся в Болгарию. Я подхожу к окошку, там сидит женщина, как потом выяснилось, Акулова: «Ваши документы!» – спрашивает. – «У меня нет документов, – говорю, – я пришел спросить». – «Пожалуйста». – «Скажите, я могу подать документы на выезд в Израиль?» Она на меня посмотрела изучающе, сделала паузу, а потом говорит: «Можете». Я потерял дар речи… Между прочим, с этой Акуловой я два раза лишался дара речи: один раз, когда я первый раз к ней пришел, а второй – через четыре года, когда я пришел за разрешением, и это был последний гэбист, которого я видел, и она мне пожала руку… «Можете!»… Прихожу в себя… «Что для этого нужно?» – спрашиваю. – «Вызов из Израиля». – «От кого вызов?» – «Ну-у, можно от знакомого, который у вас был, или от родственника, или от соседа». Слышишь? Так она говорит!!! – «Как, вызов не обязательно от матери или от отца или от прямого родственника?» Я думаю, не ослышался ли… – «Нет, не обязательно». – «Что еще нужно, кроме вызова?» – «Нужно собрать много документов, – говорит она по-деловому. – Когда вы начнете, мы вам подробно все расскажем. У вас примут документы, но это еще не значит, что вы получите разрешение на выезд. Вы ведь спрашиваете, можете ли вы подать документы на выезд. Я вам говорю – можете». – «Скажите, а как давно это случилось? Этого же раньше не было…» – я все еще не верю своим ушам. – «Да, это недели две-три», – говорит. Потрясающе! В общем, я ей низко поклонился, вышиб задницей дверь, вышел на улицу… там Фимка. Я его обнял, и мы стали танцевать на крыльце. Милиционер, который стоял у входа, испуганно отошел в сторону и смотрел на нас, как на сумасшедших. А крыльцо было скользкое, с наледью, это я помню! – я боялся, что уроню Фиму.
Ну, всё! На следующий день я прихожу к Хавкину. Темная коммунальная квартира. Там его жена Фира, Тина Бродецкая, Марик Эльбаум покойный, Володя Бариль, все в носках. Музыка играет – «Хора»! Оказывается, они разучивают танец, и Хавкин их учит. – «Танцы учите?!» – «Да». – «Ну, вот видите, – говорю, – люди уже едут, а вы тут танцы учите». – «Кто едет, куда едет?» – «Вот мы вчера с другом были в ОВИРе…» – и рассказал им всю эту историю. – «Этого не может быть!» – говорит Хавкин. – «Это то, что я слышал. Ты можешь пойти и проверить». Короче говоря, мы «обнюхались», записали телефоны… Через пару дней я получаю от него звонок, и это было уже другим голосом. Со временем наши отношения стали достаточно тесными. У нас был небольшой круг людей, бывших Узников Сиона: Леня Рутштейн, Меир Гельфонд, Леня Либковский, который был всегда с гитарой, и мы любили его песни, сам Хавкин. Была компания человек сорок, она росла. Собирались за городом на День Независимости, другие праздники…
– А что вы делали в повседневной жизни?
– Мы занимались самиздатом, печатали учебники, очень нас заботила организация ульпанов.
– Как вы делали самиздат?
– Фотопечать и на электрических машинках на тонкой папиросной бумаге: закладывали по двадцать страниц, и пробивало их хорошо. Для фотопечати брали ускоренный проявитель. Сушили на газетах, это все быстро шло. Хавкин был специалист.
– А как вы решали проблемы с нашей еврейской подозрительностью? Ведь вы расширялись, приходили новые люди.
– Очень хороший вопрос. Отношения складывались так. В Москве мы считали, что почти ничего скрывать не надо. В тот период мы об этом особенно даже и не думали, работали открыто и стукачей не боялись. Это было ощущение нашего пути, нашей правоты, нашей неотменимости… ощущение было поразительное.
– Вы были в контакте с преподавателями иврита?
– Да, конечно.
– С Моше Палханом?
– В наше время был Моше Палхан, была Хава Михайловна.
– Минц?
– Израиль Борисович Минц, да… Он же жил в Израиле, потом оказался в России, поскольку был очень сильно… коммунистически верующий человек. Потом он сел, естественно, и вышел уже нормальным человеком.
– Он любил Израиль.
– Да, да.
– А профессор Занд?
– Профессор Занд был тогда в подполье. Он ведь работал с Меиром Гельфондом как переводчик и составитель самиздатовских текстов.
– Какого рода текстов?
– Культура. Я помню, они выпускали перевод книги «Макор». Это археология с сионизмом, очень хорошее издание. У Меира была сеть машинисток и интеллектуальных работников, которые трудились над текстами. Это был мощный самиздат.
– Говорят, он был очень отзывчивым человеком.
– Меир не только отзывчивый человек, это золотое сердце! Это также всё, что касалось здоровья. Если у кого-нибудь, не дай Б-г, возникали проблемы со здоровьем, то… Это был человек очень любвеобильный, открытый, по-детски подвижный, умница и очень острый политический комментатор.
– Вы довольно быстро стали центром сионистской активности в Москве, Виля…
– Это уже потом, потом… Четыре года у меня ушло на «борба борбуется с борбом».
– Много суеты?
– … но это была жизнь колоссальной насыщенности. И эта жизнь… она меня просто высосала… совершенно! Я работал, не обращая внимания ни на что, а потом, в конце, почувствовал, что перетрудился. Это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Это помешало мне даже правильно сориентироваться в Израиле, довольно сильно помешало.
– У вас не было страха?
– Страха не было. Наоборот! У меня же не было нормальной жизни: учиться, жениться, папа, мама, детский сад, школа, ВУЗ, политиздат… у меня этого не было. Жизнь шла по другой колее. Я был в упряжке с тех пор, как они ночью пришли за мной, взяли с постели… с 1950 года. У меня, как и у Драбкина, и у Хавкина, было ощущение, что я за все в ответе, что я должен!.. Кто же будет делать, если не я?
– Ощущение миссии?
– Ощущение миссии, ощущение призванности. Кроме того, я даже не знаю, стоит ли об этом рассказывать… у меня в Магадане был один сон… вещий… мистический. Я потом его рассказывал ребятам, и люди, которые в этом разбираются, мне его объяснили. Это меня тоже очень подвинуло. Я считал, что я поцелованный, я обязан, я призван. Вот такое ощущение.
– Вы должны были представить в ОВИР вызовы или вам предложили подать документы без них, как это сделали с некоторыми активистами в Прибалтике?
– Я получил вызов от Аси Павловны, матери Ромки Брахмана, моего однодельца. Она назвалась моей тетей. В Израиле иначе не оформляли, там обязательно проставляли степень родства. Но в ГБ хорошо знали, какая она мне тетя. Мы подали, были смешные эпизоды: на мою жену, которая работала в Институте информатики, ходили смотреть, как на слона. Это был институт, где было много диссидентов. Мы все дружно подали и осенью так же дружно получили отказы – по телефону. Тогда была такая форма отказа: по телефону.
– Причины отказа?
– Почти у всех было «за нецелесообразностью». Никто и не ждал всерьез никакого разрешения. С другой стороны, мы все засветились на этом, и началась уже настоящая жизнь.
– Виля, кто инициировал ВКК*?
– Как-то на квартире у Меира Гельфонда собрались люди, которые считали себя – не скажу руководителями, но, скажем, активистами. Там были Леня Рутштейн, Давид Хавкин, сам Меир, Карл Малкин.
– Карл Малкин был преподавателем иврита.
– Карл Малкин был не только преподавателем. Он отвечал за связи с городами.
– У вас уже было распределение функций?
– Было. Мы решили, что надо что-то сделать, дали знать во все города: Ригу, Вильнюс, Харьков, Киев, Ленинград, Одессу, Новосибирск, даже в Ростов, был там Карл Фрусин. Каждый приезжал за свой счет. Это было в лесу под Москвой. Тайно! – выставляли часовых в пределах километра. Это наше сборище получило название ВКК. Бывшие там люди нигде не были записаны, но мы их всех знали. Там мы решили многие дела. Были назначены люди, отвечавшие за разные направления, от каждого города были выделены люди, отвечавшие за самиздат, между ними установлена связь… потому что это деньги, материалы, бумага, обмен литературой и так далее. Это была большая часть нашей работы. От Москвы за эту работу отвечал Карл Малкин. От Риги Менделевич. Там же появился Боря Мафцер, который активно работал. Может быть, это было и глупо, но подозрительностью мы не страдали. Тем, у кого с финансами было слабо, давали деньги. Не на поездки, а на работу. У нас к тому времени была уже общественная касса, вполне солидная. В показаниях ленинградского процесса зафиксировано, что я на лестничной клетке дал Лассалю Каминскому 3000 рублей, деньги по тем временам немалые. Я за свою квартиру заплатил 2500 рублей.
– Это за счет помощи из-за рубежа?
– Тогда еще нет, это началось позже, а пока – нет, мы не собирали деньги с публики. Давид Хавкин продавал «Эксодус» Лиона Уриса по 10 рублей. Я ему говорил: «Давид, как тебе не стыдно, ты берешь с еврея 10 рублей», а он – «Пусть платят, пусть читают и платят». Кроме того, грузины нам давали. У них были миллионеры, дававшие нам довольно крупные пожертвования. К деньгам мы относились очень щепетильно.
– Как вы делали Уриса?
– Фотопечать и на электрических машинках на тонкой папиросной бумаге. Для фотопечати брали ускоренный проявитель…. Хавкин был специалист. А на машинках закладывали по 20 страниц, и пробивало их хорошо. Сушили на газетах, это все быстро шло.
– ВКК принял решение по изданию журнала «Итон». А журнал «Исход» – это тоже ВКК или ваша частная инициатива?
– Когда мы с Меиром Гельфондом разделились на группы «алеф» (открытую) и «бет» (закрытую), мы в «алеф» решили, что можем тоже позволить себе «Хронику текущих событий». «Исход» стал еврейской «Хроникой». ВКК не имел к этому отношения, это была наша инициатива.
– Имя редактора вы на обложке указывали?
– Мы, как и демократическая «Хроника», не указывали редакторов и составителей. Единственный, кто в то время это делал, был Чалидзе – он и телефонный номер ставил, и адрес давал. Более того, никто из наших не знал, что редактором «Исхода» был Федосеев, что ему помогала жена Аля, а ее мать<,> Дора Колядницкая<,> распечатывала тираж. Яша Роненсон, сегодня он Ронен, отвечал за хранение и распространение, а я поставлял материал.
– Демократическая «Хроника» началась в апреле шестьдесят восьмого года. А «Исход»?
– В семидесятом году. КГБ шел по нашим следам, наступал на пятки. Им удалось найти тираж номера, подготовленного перед нашим отъездом. Роненсон заховал его в печную трубу возле метро «Аэропорт». Я в это время был уже в Вене, и сердце замирало от страха за Федосеевых и Роненсона, но они успели выскочить. КГБ экземпляры нашел, но установить источник не смог. После нашего отъезда «Исход» попал в руки Исая Авербуха, и он выпустил последние номера.
– Он же одессит!
– Он из Одессы, но в основном пребывал в Риге и в Москве. Он, как ртуть, крепко сбитый, необычный, с эзотерическими свойствами, поэт и душевед. Мы его любим.
– Формирование отказного сообщества началось с ваших журналов?
– Это еще не мы, это началось с Воронеля. Его «Евреи в СССР» – классический журнал общины и сопротивления.
– Проблема лидерства в Москве не возникала?
– Вы знаете, нет. У нас такой проблемы никогда не было. Я написал об этом в статье «Из истории сионизма в СССР – как заговорили “евреи молчания”». Честно говоря, даже не знаю, давать ли вам эту статью: я не хочу, чтобы она на вас повлияла.
– Я так долго там был, что на меня довольно трудно повлиять, не беспокойтесь.
– Тексты могут влиять, вы же имеете сейчас дело с текстами.
– С текстами, воспоминаниями людей, моими собственными воспоминаниями, документами. Мне не мешают разные точки зрения и взгляды. Они представляются мне естественным отражением процесса – мы все входили в движение с разных жизненных траекторий, с разным багажом личного опыта. Существовали разные точки зрения на одни и те же проблемы вплоть до диаметрально противоположных. Отчасти из-за этого подозревали друг друга. В ваше время было несколько признанных лидеров: Хавкин, Драбкин, Гельфонд, Занд, вы. Как складывались ваши отношения?
– Вот я хочу вам процитировать из той статьи: «Представляется, что угроза репрессий была одним из факторов, в силу которых в характеристику движения на этой стадии не вписывались тщеславие и жажда личного успеха. Также полностью отсутствовал элемент борьбы за лидерство, характерный для любого нормального в нормальной ситуации общественного движения, ибо наградой за рвение могла быть только тюрьма на долгие годы. Все это пришло несколько позже, на следующих стадиях движения, после прорыва “железного занавеса”».
– Кто занимался организацией ВКК?
– Я занимался, Хавкин занимался. Встреч было несколько. Я присутствовал на трех. Встречи были также в Риге, Ленинграде, Одессе – там я не был, в Киеве.
– После того, как Хавкин получил разрешение, лидером стали вы?
– Не знаю, разные были ситуации. Я знаю только, что у меня ушло на это много сил… До его отъезда все собирались на Серпуховке у Хавкина, там была штаб–квартира, это все знали, и люди ходили туда табунами. После его отъезда я объявил, что наша квартира становится местом, куда все могут приходить. Отъезд Хавкина был для нас очень чувствителен: я боялся, что народ рассосется и потом трудно будет собрать его снова. Все начали ходить ко мне, и это было очень непросто для жены: квартира превратилась в проходной двор, а у нас к тому же родилась дочка, сыну было девять лет, и всё это вместе…
Помню, однажды мы собрались в лесу на День Независимости Израиля. По–моему, там был Виктор Польский, и он даже заснял это. Когда мы собрались, то увидели, что метрах в пятидесяти маячат милиция и люди в штатском, официально маячат, не скрываются. А мы вывесили израильский флаг. Женщины стали волноваться, публика тоже, мало приятного. Я понял, что надо как–то разбить эту ситуацию, эту неопределенность, неважно, что там милиция и гебисты вокруг. Не знаю, я сейчас на это уже неспособен… как говорил Остап Бендер, я сейчас дошел до такого состояния, что стал бояться обычного финского ножа, но тогда у меня был другой настрой. Я встал и сказал: «В лагере у нас была такая поговорка: самозванцев нам не надо, бригадиром буду я. А теперь послушайте, я хочу что–то сказать». И я стал говорить о Дне Независимости, о евреях, и что это значит, и как это все… и гебисты слушали, и милиция слушала. Потом, где–то через год, когда меня вызвали на Лубянку по делу Рут Александрович и остальных из Риги – здесь я забегаю вперед по вопросу лидерства, – следователь положил мне на стол бумагу: «Частное определение следственного управления Риги и Рижской области». В этой бумаге было написано, что дело о ВКК во главе с Виталием Лазаревичем Свечинским просьба выделить в отдельное уголовное рассмотрение. Следователь мне говорит: «Видите, у вас все впереди, Виталий Лазаревич».
– Такие вещи решала обычная прокуратура?
– Когда-то была прокуратура ГБ, но Хрущев это все отменил и ГБ пошерстил, так что они к тому времени уже потеряли свою силу и вынуждены были обращаться в прокуратуру. Но все равно субординация сохранялась, потому что в прокуратуре сидели определенные люди, занимавшиеся только делами ГБ.
– А в смысле методов ведения допросов? В сталинское время умели выбивать все что угодно. А в семидесятых?
– Ну, что вы сравниваете… В наше время следователь мог подойти и дать в рожу, а в меня стреляли из пистолета ТТ – попугать. В начале семидесятых это был уже другой КГБ. Мне, конечно, было легче, чем другим. Когда ребят вызывали на допросы, я понимал, как им было тяжело, потому что это все же КГБ, тот, который был, другого они не знали. Я-то ходил большим гоголем, потому что я знал… я уже прошел эти колеса, у меня уже была информация, а не потому, что я на самом деле такой герой.
– Как в ВКК принимались решения?
– Это не занимало много времени. Кто–то предложил, согласились – и всё. Хорошие предложения проходили быстро, сомнительные долго не оспаривались. Главное было в действии. Это было время такое прекрасное… Замысел состоял в том, чтобы организовать евреев разных городов, чтобы между ними была связь и координация. Это был самый лучший проект в моей жизни. Я архитектор и сделал много проектов, но этот был лучший. Госбезопасность, конечно, муссировала ВКК. Когда начались аресты, многие ребята дали показания, особенно Мафцер. Он в красках и в лицах исписал четыре тома.
– Эли Валка тоже таскали?
– Его вызывали в качестве свидетеля, а у него больное сердце… и он стоял там, как старый партизан.
– Валк не ломался?
– Ну, что ты, Илюша – это радость наша. Но его уравновешивал Мафцер. Назвать нашу организацию ВКК предложил Владик Могилевер. Я был не очень рад этому названию, от него веяло советизмом: «всесоюзный», «комитет», но так приняли. Потом КГБ уже на полную катушку… Этот ВКК хорошо работал, много сделал.
– Как вы думаете, до самолетного дела КГБ знал о ВКК?
– Они бы узнали все равно, потому что они знали о ленинградской сионистской организации. Мы тоже хорошо знали всех членов их комитета.
– Среди ленинградцев были люди, которые до этого сидели?
– Нет, ни одного. У них были членские взносы, они были разбиты на тройки и пятерки, чтобы в случае ареста кого–нибудь другие не пострадали – по всем правилам подпольщины. В один прекрасный день Меир Гельфонд мне сказал: «Виля, этого не может быть. Они загремят и потянут за собой всех». Но это был как раз тот период, когда между мною и Меиром пробежала первая черная кошка… однако, я забегаю вперед.
– Вы делали какие-то летние лагеря?
– Да, летние лагеря были на Юге и в Прибалтике. Я к этому отношения не имел, там в основном молодежь собиралась.
– Эйтан Финкельштейн принимал в этом участие?
– Эйтан очень действенный, очень витальный, он везде был.
– А молодая поросль: Слепак, Польский, Престин, Абрамович – когда вошли?
– Это где–то 1969 год. Через Слепака же все ехали, у него такой дом хлебосольный, и потом это уже было связано с кампанией петиций.
– Когда вы получили отказ?
– В 1969 году, и это серьезно повлияло на наше настроение. Мы собрались у Меира Гельфонда в Сокольниках, и на повестке дня стоял один вопрос: продолжать заниматься самиздатом или выходить на какие-то новые формы работы. Я к тому времени был уже хорошо знаком с демократическим движениием, с самоотверженностью демократов. Я знал крымских татар.
– Власти давили их еще сильнее, чем евреев.
– Да, с ними не церемонились. Сразу в морду и на цугундер, в машину и в лагерь. Кто за них на Западе мог слово замолвить, кому они нужны? Я тогда сказал, в первую очередь Меиру, хотя Хавкин тоже еще был, но уже не высказывался, поскольку имел разрешение и готовился к отъезду: «Ребята, так жить дальше нельзя. Мы должны выходить из подполья. Надо писать письма, надо кому-то публиковаться в западной прессе». Хавкин меня поддержал, потому что весь его характер тяготел к открытой деятельности.
– Это по примеру демократов?
– Это по примеру демократов, баптистов и других. Первым был Юра Мальцев, с которым мы дружили. В 1965 году он написал письмо: «Я не могу жить в стране, чье правительство я презираю»… Его тут же поместили в сумасшедший дом, но международная общественность его выцарапала… Начались демонстрации, и его отпустили. Это была первая ласточка, 1965 год.
– С Лишкой* вы пытались советоваться?
– С какой Лишкой! Их тогда еще не было, и слава Б–гу. Если бы они были, то ничего бы у нас не вышло. Они бы сказали: «Нет, нет, Израиль запрещает». «Израиль запрещает» – опускаются руки и подгибаются ноги. Всё! Их не было. Мы были сами. Потом, когда я уже приехал и говорил с Нехемией, он спросил: «Как вы догадались не связаться с демократами?»
– Вы–то как раз были связаны с демократами, только, наверное, не участвовали в их мероприятиях?
– Нет, я участвовал… – по Жаботинскому, я его верный и благодарный ученик. А по Жаботинскому мы не можем стоять в стороне от прогрессивного движения. Мы должны участвовать, но в соответствии со своей пропорцией, и эту пропорцию не нарушать. Не может быть такого, что евреи составляют 1 процент населения страны, а среди подписантов письма в защиту демократов Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лажковой 75 процентов – евреи.
Я говорю: «Ребята, люди уже свободно выражают свое мнение, уже опубликован Амальрик, уже выходит, хоть и подпольно, «Хроника текущих событий», а Валерий Чалидзе, которого я прекрасно знал, собирает на день своего рождения всех демократов». Петя Якир шутил там у него: «Валера, если у тебя сейчас обвалится потолок, то Россия избавится от демократического движения на ближайшее десятилетие». Там были все… У Чалидзе был друг Борис Исаакович Цукерман. Они вдвоем, два физика, осуществляли функции адвокатов. Уже вышел открыто сборник Чалидзе с адресом, телефоном, именем издателя, а мы все играли в игрушки. Надо было выходить. Я говорю: «Это постыдно, что мы так…» Тогда Меир вскочил, он уже не мог сидеть. Это был первый раз, когда началась ругань. Он кричал: «Ты авантюрист, ты хочешь еврейской крови, ты хочешь, чтобы нас начали сажать, ты хочешь подрубить наше движение на корню… Мы только поднялись, собрали вокруг себя пару десятков евреев, а ты хочешь все уничтожить?» Он умел хорошо говорить… понес меня по кочкам – страшное дело…
Но тут, впервые в жизни, я заелся и сказал: «Меир, я не буду с тобой спорить. Ты прав. Может быть, не все должны идти, но кто хочет, тот пойдет. Поэтому давай разделимся. Я буду группа» «алеф», ты будешь группа «бет». Общаться мы с тобой не будем, а если будем, то только по общественному телефону или через кого–то. Я буду «треф», а ты «кашер». Точка».
Хавкин меня поддержал, и так мы и порешили… Так мы порешили, и на этом разошлись. Но эта идиллия продолжалась недолго – около трех месяцев… Потом «смешались в кучу кони, люди…» С нашим первым письмом произошла целая история… Произошло следующее: Давид Драбкин написал письмо. Это был сентябрь 69 года. Потом он стал писать хорошо, его письма ходили у синагоги, а это письмо было первое и… оно было безобразное. Там было всего 5–6 строчек: «Мы не понимаем, с какой целью советская власть силой удерживает нас в этой стране». Он считал это большой своей находкой, намекающей на Аушвиц. В общем, мы письмо подредактировали. Драбкин устроил грандиозный скандал, но – справились.
Это было так называемое «письмо десяти». Хавкин умудрился вывезти его в кинескопе своего телевизора. Шмонали Хавкина, конечно, по–лубянски. Когда прошел час и шмон еще не закончился, я крикнул Тине Бродецкой, чтобы все подписанты летели домой и почистили свои квартиры. Тогда я еще не знал, где он это письмо спрятал… Я думал – в пряжке брюк, как мы часто говорили, а он сделал надежнее – в кинескопе телевизора. Письмо найдут, думал я, увидят там все наши фамилии и тут же придут к нам с обыском. Поэтому нужно было срочно обезопасить квартиры.
– Он и электролитические конденсаторы упаковал и впаял обратно в телевизор.
– Да, и передал это кому надо. Письмо грузин и письмо Тины Бродецкой, очень хорошо сделанные, Голда зачитала, а наше письмо – нет. Во время выступления Голды в зале заседаний Кнессета царило возбуждение. Когда Голда читала письмо Тины, Бегин кричал с места: «Зачем нам Вильнер? Давайте обменяем его на Тину Бродецкую». Письмо грузин было эмоционально, религиозно и неполитично, поэтому его опубликовали. Но Хавкин сумел переправить наше письмо в Штаты, и оно было опубликовано в еврейской прессе и оттуда попало в «Посев» и на «Свободу». Мой Рома в это время работал в Манхэттене на «Свободе», и когда ему положили на стол утреннюю почту и он увидел мою подпись, у него потемнело в глазах от неожиданности и нашей смелости. Следующее письмо было так называемым «письмом шести». Оно было направлено в газету «Известия» в ответ на публикацию там письма двух придворных евреев. Тина, Марик Эльбаум, я и еще трое. Мы направили это письмо также в ЦК и передали его иностранным корреспондентам. Корреспонденты – это конечно целая глава.
– Как вы вышли на иностранных корреспондентов?
– У евреев были эпизодические встречи с «корами». Драбкин как-то встретился, Хавкин как-то встретился, но у нас не было такой четкой и прочной связи, как у демократов. Как только у них что-то происходило, это тут же становилось известно на Западе. Я обратился к Пете Якиру: «Петя, сделай хорошее дело для еврейского движения. Ты же еврей, Петя!» «Ах ты, сука, – говорит Петя, – хорошо, я тебя познакомлю с «кором». Приходи сегодня вечером к метро «Маяковская». Я пришел к метро «Маяковская», смотрю – стоят: Петя, его жена Валюша, Витя Красин, конечно, и иностранного вида мужичок высокого роста в стильном демисезонном пальто. Петя, как обычно, пьяненький: «Вот, познакомьтесь, – говорит, показывая на меня, – еврей, лидер ихний… а это, – показал он на иностранца, – Адам Келет Лонг, представитель агентства Рейтер в Советском Союзе. Желаю вам успеха». И мы все вместе пошли вниз по Каляевской к дому, где жили корреспонденты. Келет очень заинтересовался, потому что евреев у него еще не было, а это была горячая тема и для евреев Нью-Йорка, и для Америки вообще. Татары у него были, диссиденты и евангелисты были, даже немцы Поволжья были, а евреев пока не было… Мы проговорили с ним всю дорогу. Я рассказал ему, в каком положении находится движение, много ли в нем молодых, старых, что твориться с выездом, что с антисемитизмом, почему… ну, обо всем… Он задавал толковые вопросы. Возле его дома мы обменялись телефонами, адресами и расстались. Потом мы переговаривались уже по телефону. Он мне звонил, я ему звонил – свободно. Келет познакомил меня с корреспондентом «Вашингтон Пост» Фрэнком Старом. Мы с ним очень сдружились. Это был просто душа–человек. Я у него потом гостил в Америке, мы у него ночевали. С Фрэнком Старом мы провели хорошую акцию в связи с известным телеинтервью, когда собрали придворных евреев… там Быстрицкая, Райкин, генерал Драгунский…
– И Райкин участвовал?
– Обязательно, причем я помню, кáк он участвовал. Его, как на веревке, вытащили на сцену, он глядел в пол, что–то такое бурчал и потом сошел со сцены, как будто у него сердце заболело. Быстрицкая сидела как Аксинья из «Тихого Дона» и качала головой, как будто хотела сказать: «Ах, какая это глупость, какой такой Израиль… что это?» <.> Это был позор!.. Страшное дело!.. – 1970–й год. После этого звонит ко мне Чалидзе и говорит: «Виля, я не спал всю ночь… из-за вас… Я написал текст. Если кто-то из вас готов его подписать, я буду рад». Я побежал к нему, взял текст, который показался мне тогда… бесподобным… и до сих пор он кажется мне прекрасным текстом. Валера очень позаботился о нашей безопасности. С юридической точки зрения текст был безукоризненным. Это было известное «письмо тридцати девяти».
– А с чего это он так?
– Ну, как же, мы же были связаны, он нам очень сочувствовал… Он очень интеллигентный человек, хорошо понимал, что такое еврейское движение, что такое евреи в истории человечества. Его не надо было уговаривать.
– Я слышал, он из грузинского княжеского рода…
– Он грузинско-польский князь, полукровка… причем такой, что будь здоров – пол-Польши и пол-Грузии. Это не просто… Он же уходил в пустыню Кара-Кум и жил там как отшельник. У него был отражатель, которым он разжигал огонь, он умел находить воду…
– Он человек верующий?
– Нет, он не был верующим, но он понимал и чувствовал мир духовный. Это необычный человек… Да, а мы-то уже начали составлять свое письмо на эту придворную пресс-конференцию, но, прочитав текст Чалидзе, я понял, что он составил идеальное письмо, что нам до него еще не дотянуться. Он все учел. Мы бросили клич народу – «на подпись».
Подписывали письмо у Драбкина. Драбкин думал, что это я написал письмо, но я не хотел врать и сказал, что письмо написал Чалидзе. Да-а… Как я остался жив, до сих пор не знаю. Драбкин, по-моему, просто завис под потолком, как Азазелло. Он кричал, что я продаю еврейский народ, что я иду к каким то гоям… что мы снова идем к ним за помощью… и они нас спасают! – какой позор! Он кричал очень сильно. Я его успокоил. Я ему сказал: «Смотри, это пишет человек очень уважаемый. Благодаря таким людям мы вообще подняли свой голос. Эти люди, никому не будем говорить об этом, являются для нас примером. И если у него сердце за нас болит, и он добровольно вызывается написать письмо за наше еврейское дело, ничего не просит и не требует, а будет счастлив, если его подпишут как можно больше людей – и это весь его гонорар… то ты еще будешь мне здесь разводить свои жидовские сопли?»
Драбкин сказал, что согласен и подписал, по–моему, первым… И подписали еще тридцать восемь человек. Сработано было крепко. На следующий день у старого московского цирка мы встретились с Фрэнком Старом. Мы с Фрэнком спустились со ступенек и пошли во двор цирка, чтобы в случае чего я успел передать письмо<,> и чтобы оно было в руках у него, а не у меня. Фрэнк все–таки пользовался неприкосновенностью – его не могли взять на улице и обыскать. «Коры» сами это хорошо понимали и на встречах предлагали: «А ну, быстро, давай сюда, потом поговорим». Я Фрэнку устроил собственную пресс–конференцию, все объяснил. Копию мы направили также Леониду Замятину в ТАСС, но он нас, естественно, не вызвал, поэтому мы считали себя свободными <о>публиковать это везде, где только возможно. Фрэнк пробежал глазами письмо, оценил его достоинства и говорит: «Вперед, ребята, держитесь». Мы с Мариком Эльбаумом вышли, схватили такси и потратили на это дело полтора рубля общественных денег. Обычно мы не были такими транжирами, но мы же не знали тогда, следят за нами или нет, а на такси как–то проще. И мы проверили – за нами никого не было.
Утром мне звонит Эсфирь Исааковна Эйзенштадт: «Виля, я слышала наше письмо! Как это может быть, я ведь его, можно сказать, только что подписала, а его уже передавали по «Свободе»… чудеса какие–то». «У них быстрая почта, – говорю, – телетайпы…»
Это была эра петиций. Дальше пошло «письмо двадцати пяти», потом пошли письма из Риги, Киева, Харькова, Вильнюса… Потом позвонил мне Меир Гельфонд, натолкал мне по–лагерному… как надо, и говорит: «Что же ты делаешь, ты же самым сволочным образом меня грабишь – я остался один».
И мы встретились и решили, что всё – кончилась эпоха самиздата, начинается эпоха открытой борьбы… по крайней мере, на уровне печатного слова.
Потом Фрэнк Стар познакомил меня с потрясающим человеком, корреспондентом норвежской «Афтенпостенблатт» Пэром Хеге. Он стал моим другом… приезжал потом ко мне в Хайфу, ночевал у меня… В свое время у него были неприятности из–за материалов Солженицына, которые он переправлял на Запад, и его на этом поймали. А тогда было правило: если корреспондента какой–либо газеты высылали как «persona non grata», то газета на год лишалась своего представительства в Москве. Наказывали газету, являвшуюся, как мы знаем, коммерческим предприятием. Но Пэра почему–то из Союза не выгнали, и он… он переправлял мне сотни листов… И проблема стала уже понятной и известной, и началась уже инфляция петиций, и письма протеста начали писать домохозяйки… о том, как их обидели, и что у них внучка в Израиле и они ее давно не видели… А он все это брал, бедный…
– Когда начался «прессинг»?
– Где-то в апреле, еду я на работу в Мосжилпроект, это около Лубянки на улице Куйбышева. Троллейбус… обернулся – знакомая морда, топтун Якира, Петя мне его как–то показал… Я подумал, что на этот раз это, видно, для меня… Посмотрел в окно – за троллейбусом шла серая «Волга», в ней четверо – хвост, но не демонстративный. Проводили до работы. Выхожу на обед – стоят. Вечером провожают домой – то есть круглые сутки… Потом я заболел гриппом и три дня провалялся дома. Вышел в поликлинику – за мной женщина идет, «топочет»… И так это продолжалось два с половиной месяца – до 15 июня (1970 года), когда взяли ребят по самолетному делу… Во время этой слежки я встретился с Пэром Хеге. Мне удалось от них оторваться с помощью нескольких трюков в метро. Выхожу я на станции «Маяковская», там стоит мой красавец Пэр в полосатых гетрах – белое с красным, берет на голове, какая то сумасшедшая курточка… Его видно за километр. «Пэр, ты красавец, вообще… так хорошо выделяешься!» – говорю. «А что, чего стесняться?» – улыбаясь, отвечает Пэр. «А я ехал с хвостом, но мне удалось его обрубить», – говорю… «Ну и напрасно, – улыбается Пэр, – вон, смотри, они за мной ехали всю дорогу».
Смотрю, стоит гебист, совершенно откровенно на нас смотрит, стоит машина… «У тебя здорово оттопырен живот!» – не переставая улыбаться, замечает Пэр. «Ну да, – отвечаю я с некоторой тревогой, – я же набит весь». «Давай срочно в машину».
Сели в машину, он направил ее к Белорусскому вокзалу, и я по дороге все переложил под сиденье. Те за нами. Был красный светофор, но Пэр пошел на красный, и дальше – через всю Белорусскую площадь, а те не решились и остановились. На большой скорости он пошел к «Динамо», там свернул направо и выбросил меня в сугроб. Я побежал к друзьям пить кофе, а он поехал дальше со всем материалом. Вот это я помню… Он вообще страшный авантюрист был, мой Пэр, у меня просто сердце иногда замирало.
– Перейдем к самолетному процессу.
– Там был еще апелляционный суд, был мороз, мы все топтались там возле здания суда…одного Сахарова допустили внутрь… Им заменили вышку приговором.
– Вы были в курсе подготовки операции «Свадьба»?
– Нет… 15 июня ко мне приехал из Харькова Фимка Спиваковский с женой, пришел Карл Малкин, пришла Аллочка Милкина, она сейчас Алла Леви. Она жила недалеко от нас и была моей секретаршей… печатала весь самиздат.
– С какого времени Алла присоединилась к вам?
– 69–70-й годы. Она рижанка, но жила в Москве.
– Она училась тогда?
– Да, она училась… у нее какое-то сложное положение было, личная жизнь не ладилась, но она нашла себя в наших этих делах… рьяно работала, печатала, разносила… в общем, она делала свою работу прекрасно.
– Где вы жили?
– На улице Флотской по Ленинградскому шоссе, в районе станций «Речной вокзал» и «Водный стадион». Собрались люди, вдруг стук в дверь: четыре гебиста, ордер на обыск. Я читаю обыск и говорю им: «Это не ко мне». – «Как не к вам, вот и фамилия ваша здесь указана». – «Фамилия – да, но здесь статья 64-я, а это измена Родине. Это ко мне не имеет отношения. Моя статья 70-я». Я, конечно, шучу… – «Мы не знаем, это не мы делаем, мы по поручению Ленинградского КГБ».
– Алла была у вас во время обыска?
– Да, и это произвело на нее впечатление на всю жизнь. Я ее видел три месяца назад, и она мне сказала, что это изменило всю ее жизнь.
– В каком смысле?
– Она набралась страху. Она вдруг увидела подоплеку этого дела, что может произойти…. Приходят люди и распоряжаются квартирой. Я не могу подойти к телефону, звонят в дверь – я не могу открыть дверь, он подходит и открывает дверь.
– Она стала после этого менее активной?
– Нет, она не стала менее активной, но она сильно пережила это все. Я даже не думал, что она так восприимчива. Нам с Фимкой это было… ну понятно, а люди свежие… Короче, они делали обыск очень тщательно. У меня все лежало открыто, но это были копии, потому что корреспонденты принимали только подписанные оригиналы. Никаких копий они брать не могли, газета отказывалась. Только оригиналы.
– А если нужно было передать в несколько газет?
– Между корреспондентами в то время было такое соглашение – начал это Карет Лонг, корреспондент Рейтер: если кто-то из них получает материал, его могут получить все, кто хочет. Так что нам не приходилось делать копии для корреспондентов.
У меня была двойная финская дверь, и там внутри были документы. Они не догадались это раскрыть, так что эту часть они не нашли.
– Вывезли они, конечно, много?
– Они страшно обрадовались, что нашли столько материала. Шмон продолжался до четырех часов утра, а в 12 ночи раздался звонок, и пришел Яша Ронинсон. Яша вместе со мной и Федосеевым издавал журнал «Исход». Я поставлял материал, а они с Федосеевым были в подполье. До отъезда они успели выпустить три номера. Потом этот журнал издавал Саня Авербух. Все события, аресты, петиции там фиксировались. «Исход» был нашей «Хроникой текущих событий»*. Он входит, в руках записка, и говорит: «Шалом, евреи, – протягивает мне записку, – это Меир просил тебе передать».
Капитан Зайцев говорит ему: «Шалом», берет его за запястья и забирает у него записку. Яша оторопел, какие-то рожи непонятные… Я говорю: «Яша, ты пришел вовремя, к месту, с записками…» Смех, успокоились… Потом я спрашиваю: «Что за записка?» Он говорит: «От Рут Александрович, из Риги, и там на птичьем языке написано, что идут обыски и чтобы мы побереглись».
– У Меира обыска не было?
– Нет. Обыски были у меня, Слепака и Драбкина. Три обыска было по этому делу.
У Драбкина кот сидел на телефонной книге, в которой были записаны все номера телефонов: людей, корреспондентов, иногородних… Для них эта книга была бы самой ценной находкой. Они перерыли весь дом, они двигали эту тумбочку, но кот, огромный сибирский кот, не сошел, он всем телом накрыл эту книгу.
Когда оперативники ушли, Драбкины почувствовали дикий голод, бросились к холодильнику, а там была всего одна котлета… Эту котлету они отдали коту. Ноя рассказывала, что он этого кота целовал в губы. Эту новеллу я запомнил на всю жизнь.
Мои оперативники ушли в 4 утра, я прихожу на работу, звонит Петя Якир: «Вилька, у тебя был обыск?» – «Откуда ты знаешь? Обыск был ночью, сейчас утро, а ты уже звонишь на работу». Это было часов в девять. – «А ты знаешь почему, Виля?» – «По 64-й статье, по поручению ленинградского ГБ, это все что я знаю». – «А ты знаешь, в чем дело?» – «Нет». – «Так я знаю!» – «Петя, откуда ты знаешь?» – «А меня вчера вызвали на допрос по делу Габая, и следователь мне говорит: «Петр Ионович, тут есть одно дело, но оно вас не касается, это еврейское дело – евреи пытались захватить самолет. Я понимаю, что начнутся разговоры, вы побежите с вашей информацией к корреспондентам, но я вам не советую. Это уголовное дело, окрашенное националистическими устремлениями». – «Петя, – говорю, – ты ошалел! Какой самолет? О чем речь? Это очередные убийцы в белых халатах!! Евреи захватывают самолет! Сейчас! Когда весь мир борется против! Этого не может быть». – «За что купил, за то и продаю».
Мы тут же собрали человек десять, написали письмо протеста – что произведены обыски и аресты в Москве, Ленинграде, Риге и Кишиневе. Но мы допустили ошибку. Мы написали, что на этот раз евреев обвиняют в угоне самолета, что это очередной сфабрикованный процесс, подобный процессу над еврейскими врачами-убийцами. Этого не надо было писать. Нужно было просто констатировать тот факт, что на подъеме национального движения произошли аресты и обыски – и все.
Витя Федосеев, у которого английский был почти родным, поскольку он воспитывался в Китае, на следующий день звонит и говорит: “Слушай, что-то странное происходит. Все радиостанции как-то холодно относятся к тому, что происходит в Москве и Ленинграде. Как-то они мало интересуются…эта тема их мало трогает”. Я говорю: “Да этого же не может быть, как это так, такие репрессии…” Короче говоря, аресты и обыски прошли очень минорно по западной печати. И только когда они приговорили ребят к смертной казни, то была вспышка, и наши письма уже получили отклик.
– А как дальше развивалось это дело?
– Дальше меня стали таскать на допросы…. В Ленинграде, на третий день допросов, следователь говорит: «Ну ладно, Виталий Лазаревич, разговоры, хороводы – это все хорошо, а вот показания одного из ваших, Лассаля, – кладет мне на стол, – вот он показывает, что вы ему дали три тысячи рублей». И дальше расписывает, что это было сделано такого–то числа, на лестничной клетке – «никого там кроме вас не было, один на один вы ему передали…» Ну, естественно, Лассаль приехал и отчитался перед комитетом, то есть весь комитет знал, что Виля дал эти деньги… Там были на этот счет не только показания Лассаля, но он мне дал именно их, поскольку Лассаль был участником этого действия. – «Как вы отвечаете на этот вопрос?» – «Как я могу ответить на этот вопрос? У вас показания пяти или шести человек плюс Лассаль… Правда они плохие свидетели, они же ваши заключенные, и это не английский суд, так что… – и спрашиваю, – а я в положении свидетеля, подозреваемого или обвиняемого?» – «Вы в положении свидетеля». – «О’кей, – говорю, – мы оба знаем процессуальный кодекс. Я обманывать вас не могу, поэтому я отказываюсь от дачи показаний, и на этом мы наше следствие и приятные с вами разговоры заканчиваем. Больше я в нем участия не принимаю». – «Хорошо, – говорит, – но вы же знаете, что можете пострадать». – «Да, знаю. По этому виду преступления, за отказ от дачи показаний, я готов пострадать». За отказ от дачи показаний полагалось полгода принудительных работ. Как правило, отказавшийся оставался на своей работе и платил алименты государству…
– Это за официальный отказ от дачи показаний. Но они же могли предъявить обвинение по деньгам?
– Они могли предъявить такое обвинение, это их дела. Они меня спрашивают о деньгах, я не хочу говорить на эту тему. Всё. Он закруглил протокол, я подписал и уехал. Рассказал Меиру во всех деталях. Он тоже там фигурировал, и Карл фигурировал. Их обоих потом вызывали на допрос.
Потом меня вызвали на Лубянку. Там допрос был веселее – по поводу Рижского дела: Мафцер, Рут и так далее. Мы сидели, трепались с ним часа два с половиной. Потом он говорит мне: «Виталий Лазаревич, вот посмотрите показания Мафцера. Он говорит, что ВКК вы собирали в Москве, Риге, Одессе, Ленинграде, Киеве, и там участвовали такие-то, а там такие-то. А вы везде участвовали, и выступали, и говорили то-то, и распределяли… и деньги…»
– У Мафцера была хорошая память?
– Да, очень хорошая, и вообще головка свежая. Я ему говорю: «Что я говорю – это неважно. Важно, как мы запишем. Давайте запишем так…» И он это записал, и я это подписал. Этот протокол можно найти в деле. Записали так: «Мы собирались раньше, мы собираемся сегодня, и мы будем собираться завтра, если вы нас всех не пересажаете. О чем мы говорим, для чего мы собираемся, вас это не касается, потому что это дело не имеет отношения к предмету уголовного преследования. У нас у всех одна цель. Мы все хотим уехать отсюда. Для этой цели мы собираемся, обсуждаем, обмениваемся информацией разного сорта и вида, помогаем друг другу, и говорить на эту тему я не собираюсь». Ой, он так обрадовался, тут же все это написал, дал мне подписать, закрыл эту папку и вздохнул: «Слава Богу».
– Он спрашивал какие–то имена?
– Он спросил, конечно, но я ему сразу сказал, что не буду на эту тему распространяться, поскольку мы собираемся… ну, как только что написано. Он юрист по образованию, интеллигентная речь. Он собрал всё, отложил в сторону и говорит: «Виталий Лазаревич, у меня к вам просьба вне протокола. Нас никто не записывает, это только между нами, поверьте мне. Я занимаюсь еврейскими делами, я в этом отделе, и мне кое-что непонятно. Может вы сможете мне разъяснить?» – «Что именно?» – «Ну вот скажите, вы – советско-русский интеллигент, архитектор, знаете русский, английский, немецкий языки, но иврита вы же не знаете?» – «К сожалению нет, я знаю только алфавит». – «Откуда к вам это пришло, почему вдруг вы стали вибрировать на эту национальную тему и захотели покинуть страну, в которой родились? Я понимаю, антисемитизм, я все это понимаю, но неужели вам настолько тягостно, что вы ненавидите все здесь?»
И я начал рассказывать, как еврей чувствует себя в стране, и что еврей чувствует вообще, что евреи сохранились в течение двух тысяч лет жизни среди других народов, и история не знает подобных примеров, и никто не может это объяснить. Мы вот такие люди. Он говорит: «Спасибо, я вам благодарен, я должен подумать над всем этим. Допрос окончен, вы свободны, вот вам пропуск на выход». Я беру этот пропуск, иду к двери, берусь за ручку, и тут он говорит: «Виталий Лазаревич! – я к нему поворачиваюсь. – Вы все уедете…» – «Спасибо», – говорю, и пошел. Позвонил Меиру, рассказал ему об этом. У Меира поднялось настроение.
– Он обладал таким знанием?
– Обладал.
– Виля, я думаю, что если бы они дали ребятам по ленинградскому процессу по три-пять лет, то у них остался бы ресурс пересажать и всех остальных, привязав их к этому процессу, и никто бы особенно не выступал. А они подвели ребят под расстрельную статью за неосуществленную попытку захвата самолета, которую совершили только потому, что у них не было никакого легального способа уехать. Возмущение всего мира было мощным, и им пришлось искать компенсацию.
– Даже по материалам Морозова, они уже брали курс на «ослабление вожжей».
– В основном выкинуть возмутителей спокойствия и центры кристаллизации.
– Юлий, они все-таки понимали, что за возмутителями поедут следующие. И так и произошло. Еврейский отдел был очень мощный, они работали и на этом уровне понимали ситуацию. Их ведь занимало еще и то, что евреи занимали ключевые позиции в военной промышленности и в науке. Эта тема была для них серьезной. Тут я могу их понять и даже посочувствовать.
13 января 1971 года пришла открытка из ОВИРа. Там было написано – «явиться срочно». Я пошел в ОВИР, опять к Акуловой. Она говорит: «Виталий Лазаревич, у вас очень серьезная проблема. Вы должны уехать за пять дней. И не спрашивайте меня почему, не я это решаю и не вы это можете оспаривать. И я вам не советую оспаривать. Если вам дается такая возможность, я вам советую уехать. По-моему, вы уже задержались достаточно долго».
Она мне по-хорошему объяснила, как это сделать быстрее и легче. Когда она мне сказала о разрешении, я немножко потерял дар речи. Вышел оттуда, добрался до телефона и стал звонить всем и вся. И так оно и вышло. Я появился в Израиле 2 февраля, а в марте месяце весь наш ВКК был в Израиле.
– Но с 13-го января до 2-го февраля получилось больше чем 5 дней.
– Там получилась история с Цукерманом. Они не хотели, чтобы мы выезжали вместе. После того как Акулова объявила, что у меня разрешение, они потом, дней через пять это разрешение отменили. В то же время получил разрешение Борис Исаакович Цукерман. Акулова сказала мне, чтобы я не волновался, что это чисто техническая причина. И действительно, он уехал, она меня снова вызвала и говорит: «Пять дней остаются, но точка отсчета начинается с сегодняшнего дня». Так это было. Они не хотели устраивать фестиваль в аэропорту – диссиденты и евреи вместе. Но все равно пришло много народу, корреспонденты.
– А Тина Бродецкая?
– Она получила разрешение раньше меня.
– После того как вы получили разрешение, вас сменил Виктор Польский?
– Он сменил уже после нашего отъезда.
– Вы передали ему дела, как-то «помазали» на руководство?
– Мы с ним сотрудничали, но никто ничего не передавал. В двух вещах я принял активное участие. Это ВКК и петиции – «отпусти народ мой». На заключительном этапе КГБ уже шило дело по ВКК, и там червонец светил наверняка, но пронесло.
– Вам удалось сломать страх перед режимом.
– Еврейское движение вышло из подполья. Не благодаря мне или Хавкину, а благодаря демократическому движению. Общая ситуация стала уже такой, что евреи не могли больше делать вид, будто ничего не произошло.
– Как прошла встреча с Израилем?
– У меня были несколько иные ощущения, нежели у Хавкина, потому что это уже другое время. Разница была больше года. Он приехал, когда еще властвовал легендарный Авигур. Я был у него, но тогда уже Нехемия правил бал. Надо отдать им должное, они уважали друг друга.
– Как они формулировали свою политику, я более менее понял из книги Леванона, а вот чем было вызвано их такое отношение к активистам и к Союзу, почему они выбрали такую стратегию?
– Они привыкли относиться к алие как к человеческому сырью – «хомер гэлэм». Бен-Гурион говорил: «Не вы нам нужны, а дети ваши нам нужны». Бен-Гурион резал правду-матку в глаза. И этот подход доминировал в сознании Натива. Там был Яка Янай, Меллер, отсидевшие ребята, они тоже прониклись этим духом, у них тоже уже не осталось человеческого тепла. В их руках эта работа превращалась в казенщину, в бюрократическое дело. Там не было ни грамма идеологии или романтики. Единственный, кто сохранил еще как-то это чувство, был сам Нехемия.
– Вы сказали, что приехали очень уставшим.
– Я приехал выжатый, как лимон.
– Это были годы без сна и без отдыха?
– Не в этом дело. Все-таки нервное напряжение, общение с колоссальным количеством людей. Общение с людьми отнимает много энергии. Я приехал совершенно обессиленный. Прошло несколько лет, пока я как-то восстановился. Потом я же попал в ситуацию, когда ни языка, ничего. Мне уже шел 41-й год, изучать все это… Потом, моих же не выпустили, ни отца, ни мать, ни брата, ни тетку. Отца так и не выпустили. Гебистов они не выпускали, он так и умер там. Первым выпустили брата. Он стал активным, сотрудничал с Польским, Слепаком, Орловым. Потом умер отец, и тогда отпустили мать, а тетка приехала вместе с братом.
– Вы говорили, что отношение к Хавкину было очень негативное.
– Да.
– Почему?
– Не только к Хавкину. Хавкин, как истинный Моисей, был косноязычен и гугнив. Он не мог стройно изложить свои мысли и был здесь как рыба, вытащенная из воды. В Москве это был морской лев, он плавал там в своей родной стихии. Он горел, он это сделал, и это много лет, и тюрьма, и после тюрьмы без всякого перерыва начал заниматься еврейским движением. У меня же был променад. Я после тюрьмы отдохнул, набрался сил, я знал и другую жизнь, жил в свое удовольствие, наслаждался природой, наслаждался искусством, много рисовал, писал картины пастелью, маслом, тушью. У меня осталось там примерно 300 работ.
– И до сих пор не отдали?
– Не отдали ни одной. Потом ребята видели папку с моими работами в министерстве культуры. У меня же времени не было брать разрешение. Это было безумие…
– Потом они стали разрешать такие вещи.
– Для меня потом уже не наступило. Что я хочу сказать? Что у меня был кусок нормальной жизни, а у Хавкина даже и променада такого не было.
У них лагеря были, конечно, попроще, не наши. У нас были каторжные лагеря по всем правилам. У них это уже хрущевское время, иначе. Тем не менее, лагерь есть лагерь, они вышли и продолжали свое дело.
– Израиль отвечал вашим ожиданиям?
– Израиль произвел на меня очень сильное впечатление. Не самой фактурой, я все же архитектор и могу проектировать города и отдельные объемы, а какой-то… я почувствовал сразу – какой-то такой атмосферой, которая имеет отношение даже не к физической, а скорее к духовной жизни. Эта страна отмечена некоей печатью, особенно Иерусалим. Я прямо задохнулся, когда я это увидел эти камни, эту Стену плача… площади еще не было тогда.
Я все это рисовал, написал об этом статью и поместил ее в журнал «Сион», который редактировал. Профессор Манцель, у которого я работал, попросил меня написать статью об архитектуре Израиля. Я написал, и он поместил ее в журнале “Архитектура”. Я писал о мистическом ощущении Иерусалима, о необъяснимом трепете, об этой звучащей струне,
– Как ты оцениваешь отношение израильского истеблишмента к движению в Союзе и к его приехавшим активистам?
– До меня опыт такого отношения был у Давида Хавкина, Дова Шперлинга с Яшей Казаковым, Лиды Словиной. У них у всех был печальный опыт. Я встречался с Нехемией, а не с Шаулем Авигуром. Я, конечно, провел и с Шаулем пару часов, он обо всем расспрашивал, внимательно слушал, но дело мы имели с Нехемией, который понимал, что просто так игнорировать, как они говорили – «активистов алии», нельзя, и он был готов сотрудничать.
Он предложил создать такой как бы ВКК, чтобы туда вошли люди из разных городов, и чтобы это ВКК стало совещательной и исследовательской группой при его Лишкат а-Кешер*. Предполагалось, что эта группа сможет давать профессиональные советы и влиять на решения самой Лишки, а также на то, что Лишка передает в правительство.
– Хавкину он этого не предлагал?
– Нет. Он предложил это уже нашей группе, второй, можно сказать. Там был Гиленрод, Фимка Спиваковский…
– Хавкин не вошел в эту группу?
– Он тоже имел интерес к этому и даже принимал участие в нескольких заседаниях. Но это продолжалось недолго, потому что со временем мы поняли, что это детские игры. В то время алия для Лишки и для израильского истеблишмента не была первостепенной заботой.
Голда тоже отдала этой теме должное, приняла нас несколько раз, сидела с нами по полдня, говорила. Признаки интереса были налицо. Но на самом деле мы мало на что могли повлиять.
– У вас сложилось ощущение, что они искренне желали алии и пытались разобраться, или был какой-то другой интерес?
– Нет никаких сомнений, что желали.
– Я это спрашиваю потому, что по мнению, скажем, Хавкина и Палхана они делали все возможное, чтобы эту алию тормозить, поскольку – тут я привожу аргументы из разных источников: Израиль не был к ней готов; в Израиле не было достаточного количества рабочих мест; партия Мапай боялась, что эта алия подорвет ее власть; с этой алией шел вал агентов КГБ, и прочее, и прочее. Должен признаться, меня эти аргументы мало убеждают, поэтому и спрашиваю.
– Нет… Сказать, что они не хотели алию, – нет. Когда не хватало людей, Бен– Гурион решился на то, чтобы завести сюда марокканских евреев, которые, по–моему, скорее не евреи, а берберы. Они ментально не евреи, в отличие, скажем, от иракских или йеменских евреев, которые таки да евреи. Мы это чувствуем, это душа. Марокканцы –это дети пустыни, это берберы. Как говорил полковник Лоренс арабам, которые утверждали, что они дети пустыни: «Вы не дети пустыни, вы ее отцы».
– Они приехали с еврейской религией и традицией.
– Понятно, что они начали исповедовать иудаизм до Израиля, но это еще не значит, что генетически они евреи. Во всяком случае, мне трудно поверить, что это так. Я очень много работал с ними, и я это чувствую. Но это мое личное ощущение и его во внимание брать не нужно. Тут есть полушутка, полуправда. Я думаю, что они – берберы.
– Есть точка зрения, что этническое единство евреев – это дело спорное, что они имеют примесь народов, среди которых жили, потому что были погромы, войны, изгнания, смешанные браки…
– Я не думаю, что при этом кровь сильно пострадала. Дизраэли был прав, когда говорил: «Я являюсь представителем единственной чистой расы в Европе». Всё остальное – англичане там, французы, уже не говоря о русских, это смесь разных народов. И никто это не оспаривает. Чистота крови у евреев послужила нацистам основанием для их теории расового превосходства.
– В Германии был довольно высокий уровень смешанных браков. А сегодня в Штатах чуть ли не половина – смешанные браки, в России – еще больше.
– Сейчас это другое дело. Процесс идет. Но в Торе написано: «Нэфэш абасар бадам ги», то есть душа тела – в крови. Но мы залезаем с тобой в другую тему. Я хочу сказать, что Бен-Гурион пошел на то, чтобы завезти этих марокканцев, и говорить при этом, что он мог не хотеть нашу алию, это глупость. Ему было тяжело их завозить, он запустил козла в хату. Трудно было жить, а что делать? Где достать этот людской материал. Американцы не едут, из Аргентины тоже, Россия на замке. В Европе всё уничтожено, только осколки, пережившие лагеря, приезжали в Израиль. О чем говорить? Израиль сопротивлялся, был в войне, и выдумывать всякие дурацкие теории про шпионов – это глупость.
По-человечески, на чисто бытовом уровне не хотели. Я работаю инженером в каком-то отделе, у меня неполное среднее образование, но я уже все это изучил, я знаю механизмы, машины, хорошо работаю, и вдруг приезжает-таки инженер, более того, доктор по крановому оборудованию. Ну конечно, я по сравнению с ним ничто, но у меня есть постоянство на работе и есть место, а он претендует, происходит борьба. Я не хочу, чтобы он приезжал, он мне не нужен, я устроен, у меня есть своя ниша и все такое. Выступать с этой позиции глупо. Формирование евреев как нации в Израиле происходит стихийно. Тут даже не нужно искать «хотели или не хотели», это происходит автоматически. Были приняты законы, построены ульпаны, классы учебные. Там столовая, трехразовое питание в день и какие-то деньги на карманные расходы. Нужно все-таки представлять масштаб и размеры той помощи, которую государство нам оказало.
– А какие советы вы давали Лишке?
– Что пропагандировать, что посылать в Россию, чему их учить в России, как налаживать связи. Были вещи хорошие, например, переводы денег. Человек оставлял там свои деньги, приезжал и получал тут некий эквивалент без большой бюрократической проволочки.
– А что вы предлагали в качестве стратегии: какие приоритеты, какие направления – да, какие – нет, как вести дела с Союзом?
– Там было много разных предложений. Самые лучшие предложения исходили от Лидии Словиной. Она выпускала брошюру, которая называлась «Дома». Сначала она выпускала брошюру, которая называлась «Домой».
– Она где-то работала?
– Да, она работала при ЦК Ликуда. У нее были, естественно, плохие отношения с Нехемией, поскольку это Ликуд, а Нехемия был в нашей партии.
– В вашей в том смысле, что вы – Авода?
– Ну, конечно, была одна партия, как в Советском Союзе. Ликуд – это вечный оппозиционер во главе с Бегиным. Но Нехемия признавал за Словиной организаторские способности и аналитический ум. В ее брошюрах можно найти все эти советы. Какую литературу распространять в России и как распространять. Были и авантюрные предложения, провокации – пусть даже какое-то число людей попадет в тюрьму, но зато… Смелость здесь вздымалась до небес. Потом это как-то само собой заглохло. Наше влияние было очень ограничено. Потом мы нашли частный дом – Исраэль Шинкарь, у него были огромные шкафы с колоссальным архивом, у него были данные на всех отказников, Нехемия его принимал. Нехемия всех принимал, но он не мог, он ходил под стягом… Он не мог реализовать все предложения Шинкаря, он ходил под стягом.
– Шинкарь делал все это на свой страх и риск?
– Он делал это на свой страх и риск и на свои деньги. Он посылал в Россию самиздат, а главное – на Запад рассылалась информация о том, что происходит в России. Он дружил с ведущими корреспондентами западной прессы. Шинкарь очень много делал. Но вскоре у всех как-то синхронно появилось ощущение, что мы мало чем можем здесь помочь. В России мы были действенными фигурами, ощущали размеры наших сил, усилий, а главное размеры результатов. Здесь мы как будто били в подушки.
– Когда ваши усилия стали утихать?
– Через год после приезда мы уже поняли…
– И каждый ушел в свою нишу?
– Да, все разошлись. Часть ребят пошли создавать олимовские поселения, мы тоже ударились в это дело и создали строительно-проектную компанию. Там были ребята из Воркуты, я забронировал место для Вити Богославского, и когда через три года Витя приехал, он вошел в эту кампанию. Мы пытались что-то строить, что-то проектировать и… все это провалилось.
– Почему провалилось?
– Провалилось по нашей глупости, хотя могло пойти и не провалиться. Мы плохо знали местную ситуацию. Сейчас я уже стал умнее и вижу, как это могло бы не провалиться. Мы сумели добиться крупной ссуды от строительного банка. Но мы не смогли ею правильно воспользоваться. Паша побежал в нашу партию, и ему дали экспериментальный проект, очень трудный проект в Ашдоде, как будто бы назло, чтобы завалить нас. За неимением другого мы это взяли и конечно провалились, истратили все деньги и ничего не построили. В общем, некрасивая история. Это был очень печальный опыт. Хорошо, что мы вырвались без долгов. Это перешло уже в министерство юстиции, где устроили разбор. Там, естественно, подумали, что деньги украдены, но увидели, что это не так, что они имеют дело просто со шлепперами, которые не умеют вести дело. Они закрыли это дело и сказали, чтобы мы в таком составе больше не собирались, это ни к чему хорошему не приведет. Так же распалось научно-промышленное поселение «Алия-70», созданное Анотолим Гиленротом и Амиком Диамантом в 1973 году.
– Деловых людей Россия мало поставила.
– Мы, конечно, звонили все время в Москву. В Ришоне был такой Зарецкий, и через него Нехемия держал связь с Москвой. Мы ездили к нему, чтобы услышать их голоса. Это продолжалось много лет. Это ощущение, что ты уехал, а люди там остались, друзья детства, Резников и Орлов, душа болела… как помочь, как организовать деньги.
– Политикой вы не пытались заниматься?
– Нет. Дов Шперлинг одно время что-то пробовал, но ничего у него не вышло, устроился в Сохнут, работал на багажном складе, заведовал там имуществом. Лида Словина в это играла…
– Как вы относитесь к русским партиям?
– То, что Щаранский создал, это карикатура. А вот то, что сделал Либерман, который рос изнутри, – это да.
– Такой путь вы признаете?
– Не только признаю, а мечтаю, призываю – только так, изнутри. Не за счет создания электоральной массы, которая многого не стоит, а за счет колоссальной внутренней работы прийти изнутри, стать израильтянином, стать влиятельным и привнести туда нашу ментальность. Это теоретическая тема, я об этом сейчас пишу.
Сейчас замыкается связь времен на израильской почве. Евреи России в свое время заложили это государство, а нынешняя алия будет его строить и развивать. На американских евреев рассчитывать не надо. Они не определят судьбы этой страны. Всё повторяется, как во времена вавилонского пленения, – та же схема сохранилась и сегодня.
Американцы будут «держать за нас мазу», будут помогать, и Америка – это единственная страна, на которую мы можем рассчитывать. Из России нам нужны только человеческие души. Я думаю, что в России есть еще миллиона три, которые растворились там. Придет время, и они тоже поднимутся. Еврейская судьба настолько иррациональна, она не поддается никакой логике. У Соловьева есть прекрасная вещь. Он говорит, что историю евреев нельзя сравнивать с историей других народов: «Если вы хотите понять историю евреев, вы должны сравнить ее с историей человечества». Он знал, о чем говорил. Душа человеческая развивается вне зависимости от исторических свершений, и мы живем в то время, когда она развивается очень интенсивно. Развитие души запрограммировано, и история человечества запрограммирована, но это мы снова уходим от темы.
– Вы верите в исторический детерминизм?
– Это не вопрос веры, это вопрос знания. «Вера» – я ненавижу это слово. Вера – это будьте у Верочки. Что такое вера? Вера – это отсутствие уверенности. Тогда возникает вера. Хорошо это изложено у Полякова в «Истории антисемитизма». Он русский еврей, французский ученый, член французской академии. Первый том – это эпоха веры. Второй – эпоха знаний.
– Я не люблю две темы в еврейской истории: тему антисемитизма и тему Холокоста. Это бесконечное ковыряние в собственных болях.
– Совершенно верно, правильно не любишь. Это колоссальные темы, но они рассматриваются с неправильной точки зрения. Ведь Холокост, 6 миллионов, это же всё было убито… Кем убито? Небом. Для чего убито? Вот вопрос!
– Чтобы Феникс снова возродился, чтобы народ проснулся от двухтысячелетней спячки…
– Совершенно… Чтобы евреи снова вернулись к своему будущему, и оно у них колоссальное. Евреи – народ ключевой в истории человечества.
Это колоссальная тема, я уже два года хожу на лекции. Можно заниматься только этим. Вместо того чтобы видеть в Холокосте поступь истории, в нем видят собственное несчастье… ну, естественно. Нет ничего лишнего и нет ничего случайного. Даже если вещи повторяются, это все равно не случайно.
– Вернемся к сионизму. Мне стало известно, что вы были делегатом Всемирной конференции в Брюсселе.
– Что делать…
– Более того, вы там выступали.
– Ну да, даже на идише говорил.
– Вы выступали на идише?
– Я выучил что-то такое… Вообще-то я выступал по-русски, там был синхронный перевод. В конце я сказал несколько фраз на идише.
– Остались впечатления или всё смешалось от обилия новизны?
– Это было волнительное действо. У меня сложилось впечатление, что там вершилось что-то важное. Давила ответственность, нужно было правильно все сказать, чтобы было понято. Я ведь приехал в Израиль только второго февраля, за двадцать дней до этого. Нехемия Леванон сказал, что надо поехать, выступить.
– Сколько минут вам дали?
– Никто не ограничивал. Мое выступление сводилось к тому, что за всю историю еврейско–советских отношений впервые советские евреи нашли в себе мужество и силы встать и открыто заявить о своей верности исторической родине, Израилю, что национальное самосознание вспыхнуло у них остро и сильно, и в это самое время в Советском Союзе буквально идет война, люди посажены, продолжаются допросы, аресты. Я сказал, что нужно показать им, вставшим на борьбу, что они не одни. И нужно показать советским властям, что они не один на один борются с евреями, что есть мировое еврейство, которое стоит рядом со своими братьями и будет биться вместе с ними. Вот это я говорил. В конце я распалился и призвал объединить все еврейские силы в диаспоре, чтобы показать Советам, чтó такое мировое еврейство.
– Вы давали интервью?
– О, да… тоже… Я говорил, что у нас перед глазами есть опыт татар и демократов-правозащитников. Когда Советы видят, что у какой-то группы в мире нет поддержки, они действуют очень быстро и решительно. Так было с крымскими татарами. Их никто в большом мире не поддержал – ни мусульмане, ни христиане, и с татарами расправлялись очень круто. Власти также круто расправлялись с демократами, поскольку их поддержка на Западе опиралась только на подписи Дина Рассела да группы интеллигентов, чтó было для Советов неприятно, но терпимо. Нас поддерживала сила много бóльшая. Евреи на Западе, слава Б-гу, обладали значительным влиянием во властных структурах, в средствах массовой информации. Я говорил, что советская власть очень чувствительна к тому, как она выглядит на Западе, поэтому важно осудить ее действия на всех уровнях международной информации. «Какую бы силу духа и воли ни проявили еврейские активисты, те, которых уже арестовали, и те, которые будут арестованы, их судьба зависит от вас, господа, – говорил я им. – Вы не должны позволить Советам расправиться с ними на этот раз».
– А как остальные ребята?
– Все были очень возбуждены. Гриша Фейгин, по-моему, выступал. Все были еще совсем «свежие».
– Запад, наверное, еще расплывался в глазах, фокус не возникал…
– Нет, Запад представлялся как нечто гомогенное, как некая добрая сила, и мы стояли перед этой силой и старались сказать хорошо, внятно, крепко. На это ушла вся наша энергия.
– Вы участвовали в работе дискуссионных групп?
– Да, мы были заняты все три дня полностью.
– У вас сложилось ощущение, что на Западе есть понимание того, что происходит в Советском Союзе?
– Мы были в таком состоянии… мы верили в Запад и знали, как чутко реагировали в Советском Союзе на то, что говорят на Западе, как КГБ просчитывает возможную реакцию из-за рубежа. То, например, что можно было делать в Москве, ни в коем случае нельзя было делать ни в Ленинграде, ни в Свердловске. Мы в Москве понимали, что у нас есть щит, его выстраивает сам КГБ, скрупулезно просчитывая меры, которые можно применять в Москве. Мы, например, знали, что московская ГБ была недовольна ленинградской ГБ за то, что та раздула «Ленинградское дело» и не просчитала возможной реакции. В результате в мире поднялась такая мощная волна протестов.
– У Нехемии Леванона, с вашей точки зрения, было понимание ситуации?
– Да. Но в то же время у него не было полной свободы действий, он был связан, ходил под стягом, подчинялся Голде. Мы там встретились с Ромой Брахманом, аккредитованным на конференции от радиостанции «Свобода». Он же мне как брат, мы однодельцы… и он говорил мне: «Ты думаешь, что это американские евреи спасают российское еврейство? На самом деле все наоборот, они спасают себя – как евреи. Вы им помогли объединиться, вы им помогли почувствовать, кто они такие». Я в этом направлении никогда не думал, у меня никогда мысли такой не возникало, он меня поразил. Я много думал потом – неужели он прав?
– Я приближаюсь к концу, и у меня осталось два небольших вопроса. Если бы вы знали то, что вы знаете сегодня, что бы вы поменяли в вашей жизни?
– Я бы ничего не менял в том, что относится к российскому периоду, но я бы да поменял многое из того, что относится к израильскому периоду. Я бы иначе это построил.
– А кем бы вы хотели стать в Израиле?
– Никем, у меня нет никаких вожделений, ни политических, ни других. Я бы просто хотел получить известную степень чисто житейской свободы.
– То есть иметь достаточный уровень благосостояния?
– Который бы позволил мне заниматься тем, чем я хочу.
– А чем вы хотите заниматься?
– Я бы хотел писать, рисовать, делать какие-то свои вещи, которые я мог бы выставлять даже не для продажи. Я бы хотел читать, и я знаю, что мне надо читать, и я хотел бы писать, и я знаю, что мне надо писать. Вот это всё. Других претензий и других вожделений у меня нет.
– Вы счастливый человек?
– Нет, я себя не считаю счастливым, да я и по характеру немножко такой… не счастливый.
– Из вашего юмора этого не видно, отношение к людям у вас положительное, не плачетесь, хотя было довольно поводов и причин. Вот я иногда наблюдаю – чем легче человек прожил, тем он больше плакаться готов. А люди, которые прошли что-то серьезное, то ли выплакались уже где-то внутри, то ли считают это занятие бесплодным, то ли у них шкала измерения совсем другая.
– Может быть, может быть.
– Спасибо Вам огромное, Виля.
 English
English