Тонкий ручеек эмиграции, возобновившийся в конце 1968 года, ни в коей мере не решал проблему для всех желающих. В 1968 году выехало всего двести тридцать человек, в 1969 – три тысячи тридцать три человека. Это было больше похоже на желание властей избавиться от активных сионистов и смутьянов, поднявших голову после Шестидневной войны. Такие меры не сбивали эмиграционную волну, а только возбуждали аппетит самой возможностью выезда.
Неудивительно поэтому, что среди активистов находились горячие головы, искавшие возможность выбраться из страны минуя пограничный контроль. Есть свидетельства о ленинградцах, проверявших вариант пересечения границы с Финляндией, о планах бегства на воздушном шаре, даже о захвате подводной лодки… Активист из Ростова (ныне профессор бээршевского университета) планировал добраться вплавь до Турции. Эти планы заканчивались, как правило, на этапе подготовки ввиду высокого риска и крайней сложности их практического осуществления. Но не все.
Одной из попыток нелегального пересечения границы с помощью захвата самолета предстояло стать поворотным моментом в борьбе за свободу эмиграции.
Идея принадлежала Марку Дымшицу, бывшему военному летчику, понимавшему, что обычный выезд – не для него.
Марку выпала суровая доля: он потерял родителей во время ленинградской блокады, ему было тогда 15 лет, прошел детский дом, испил до дна чашу государственного и бытового антисемитизма сталинских времен. Не сломался.
Твердо зная, что его место в Израиле, много лет вынашивал идею побега. Он понимал, что в одиночку план не осуществить, и неспеша искал соратников. Они нашлись после встречи с Гилелем Бутманом.
“Мне рассказали о бывшем военном летчике, который самостоятельно пытался учить иврит, даже не имея учебника, – писал Гутман.[1] – Я попросил передать ему приглашение в ульпан. Он пришел ко мне сразу же. Моложавый брюнет лет сорока, в аккуратном сером костюме, гладкие волосы… Он с женой и двумя дочерьми жил недалеко от меня на Ново-Измайловском проспекте. Он стал заходить ко мне в связи с занятиями в ульпане. Очень быстро разговоры перешли от иврита к Израилю, и стало ясно, что мы единомышленники… Однажды, в конце ноября-начале декабря, мы с Марком гуляли недалеко от моего дома. Наверное, к этому времени он уже решил, что может рискнуть. Когда разговор снова завертелся вокруг проблемы выезда, Марк вдруг сказал: “Не фантазировать надо, а просто улететь”. “Как?” – удивился я. “Захватить самолет”, – спокойно сказал Марк, и было ясно, что все давно им обдумано… Первым моим импульсом было – немедленно отказаться. Но я не отказался. Шальная мысль пришла мне в голову, и чем больше я о ней думал, тем глубже она застревала. А что, если это и есть десятая казнь, которая заставит фараона капитулировать? Может быть, это мой звездный час, бывающий в жизни только раз. Пройду мимо – никогда не прощу себе”.
Бутман загорелся идеей. Правда, оставались и сомнения – риск был велик. После долгих предварительных разговоров с Дымшицем Бутман решил обсудить этот вопрос на Комитете организации. Комитет не высказал резкого возражения, но большинство колебалось. То, что никто не возражал, ободрило Бутмана. После этого Дымшиц приступил к проверке различных вариантов, а Бутман занялся подбором участников. В феврале 1970 года он отправился в Ригу, где хорошо знал только Арона Шпильберга и Сильву Залмансон. Мужем Сильвы был Эдуард Кузнецов – они оба мечтали как можно быстрее выбраться из страны. Так произошло второе судьбоносное знакомство. К апрелю 1970 года у Бутмана было уже около сорока кандидатов на участие в акции.
Решения Комитета ленинградской организации были обязательными для всех групп лишь в том случае, если они принимались единогласно. В противном случае решения были обязательны только для тех, кто за них проголосовал. На том первом обсуждении из пяти присутствующих членов комитета за акцию проголосовали только двое – сам Бутман и Анатолий Гольдфельд. Остальные от участия отказались, но обещали помогать, в случае если акция будет готовиться. Постепенно, однако, от осторожно положительного отношения они стали переходить к осторожно отрицательному, а затем и к резко отрицательному отношению.[2] Остыл Соломон Дрезнер, Анатолий Гольдфельд перестал говорить о личном участии и влиял в том же направлении на кишиневцев. Против выступил Владимир Могилевер: “Ты представляешь, что здесь будет? Разгром организации, аресты, обыски, с ульпанами будет покончено. Затянут гайки так, что не откроешь рта… А если результатом будет только то, что евреев совсем перестанут принимать на работу, в институты, если начнется волна антисемитизма на улицах? Подумай о тех, кто остается”.[3]
В апреле 1970 года состоялась конференция ленинградской организации, на которой обсуждались ее программа и устав. В отличие от обычных встреч на конференцию были приглашены не по одному человеку от группы, а по два и кроме того еще несколько человек, не представлявших группы. К вечеру, когда обсуждения близились к завершению, Давид Черноглаз при поддержке Могилевера поднял вопрос об операции:
“Организация стоит сейчас на краю гибели. Если мы не примем сегодня решительных мер, организации осталось недолго жить. Причина – сепаратная деятельность члена Комитета Гилеля Бутмана. Он готовит сейчас акцию, результатом которой будут аресты членов организации, обыски, фактическое прекращение деятельности организации”.[4]
– Вы с самого начала были резко против операции? – спросил я Давида Черноглаза.
– Не совсем. Поначалу идея произвела на меня сильное впечатление… она была яркая и на первый взгляд казалась очень привлекательной. Я ее не отверг с порога.
– Чем вы объясняете свое столь резкое выступление на конференции?
– К этому времени я уже понимал всю проблемность операции. Могилевер понимал. О существовании и деятельности организации было наверняка известно властям, риск был слишком велик. Кроме того, мы не для этого затевали организацию, у нас были другие задачи, другие темы. Обсуждение на этом расширенном собрании, подобных которому ни до, ни после у нас не было, представляло собой отчаянную попытку остановить Бутмана. Идея была такая – затянуть время, замотать тему, отговорить его или дать ему самому себя отговорить.
Участники конференции, впервые услышавшие об этом, заволновались. Бутман заявил, что, поскольку по новому уставу решения конференции являются обязательными для всех, в случае отрицательного решения он выйдет из организации и завершит дело. Тогда решили вернуть обсуждение вопроса на Комитет. На фоне конфликтной ситуации и неоднократных попыток убедить Бутмана отказаться от проведения операции, соображения конспирации уже должным образом не соблюдались. Бутман твердо стоял на своем, хотя сомнения уже начали его беспокоить. Наконец, на одной из встреч Михаил Вертлиб бросил спасательный круг: “Давайте запросим Израиль. Как скажут, так и сделаем”.[5]Все согласились – день “Х” отодвигался, и это всех устраивало.
“Г.Бутман и В.Могилевер через норвежского гражданина Р.Аронсона, находившегося в тот момент в СССР, запросили у израильского правительства санкцию на проведение трех акций: захват самолета, проведение открытой демонстрации в Ленинграде и проведение закрытой пресс-конференции для иностранных журналистов. Решением этого вопроса в Израиле занимался Нехемия Леванон. В результате проинструктированный им А.Бланк позвонил в Ленинград и говорил с Могилевером… А.Бланк передал ответ Леванона под видом решения консилиума врачей о применении больной тещей Г.Бутмана трех лекарств. По поводу первых двух акций был получен категорический отказ, а проведение пресс-конференции было оставлено “на усмотрение местных врачей”.[6]
– Глава “Натива” Нехемия Леванон был категорически против угона самолета и рассматривал это как провокацию, – вспоминает Эйтан Финкельштейн.[7] – Должен признаться, что я рассматривал это так же…”
– Тебе предлагали в этом участвовать? – спросил я.
– Это я предлагал им не участвовать, – ответил Эйтан. – И они мне обещали. Понимаешь, жизнь ведь сложная штука. Если человек бросается с десятого этажа, он может выжить и стать героем, но 99 процентов разбиваются. Тогда это выглядело как провокация, и я почти уверен, что за ниточки так или иначе дергали органы… Это не бросает никакой тени ни на Кузнецова, ни на Дымшица. Мир боролся с угонщиками самолетов.
Итак, ответ из Израиля был категорически отрицательным. Бутман подчинился, сообщил об этом остальным кандидатам на участие в “свадьбе” (кодовое название акции) и вышел из игры. Но подчиниться были готовы далеко не все.
Моторами операции стали теперь Марк Дымшиц, Эдуард Кузнецов и Иосиф Менделевич. И даже когда Кузнецов предложил перенести операцию на год, хладнокровная целеустремленность Дымшица и решимость группы испытать свой шанс победили.[8] 15 июня 1970 года 12 евреев, в подавляющем большинстве рижане, предприняли попытку похищения самолета. Они планировали перелететь в Швецию и уже оттуда отправиться в Израиль. Наметили небольшой двенадцатиместный самолет АН-2, летавший из аэропорта Смольный (Ленинград) в городок Приозерск, расположенный рядом с финской границей. В день “Х” скупили все 12 билетов на самолет.
“После посадки в Приозерске, когда пилот откроет кабину, – описывал план захвата Менделевич,[9] – двое наших будут стоять по обе стороны двери и свяжут ему руки. Второй пилот, сидящий спиной к выходу, не успеет вынуть револьвер – его тоже свяжут” “Моя задача, – продолжал Менделевич,[10] – помочь Менделю Бодне, спортсмену-борцу, связать первого пилота, Израиль Залмансон и Эдик Кузнецов должны были справиться со вторым пилотом. Я написал текст “Завещания” о причинах, толкнувших нас на этот отчаянный шаг. Если мы погибнем или нас арестуют, “Завещание” нужно предать гласности”.
Группе захвата не удалось даже войти в самолет. Всех взяли у трапа при посадке. Чекисты обставили все, как впечатляющий спектакль. Задержание безоружной группы производилось с применением войсковых частей и собак-овчарок…
“Мы… – было написано в “Завещании”,[11] – предпринимаем попытку покинуть территорию этого государства, не испрашивая на то разрешения властей. Мы из числа тех десятков тысяч евреев, которые на протяжении многих лет заявляют соответствующим органам советской власти о своем желании репатриироваться в Израиль. Но неизменно, с чудовищным лицемерием, извращая общечеловеческие, международные и даже советские законы, власти отказывают нам в праве выезда. Нам нагло заявляют, что мы сгнием здесь, но никогда не увидим своей Отчизны… Нами движет желание жить на Родине и разделить ее судьбу”.
В послесловии к “Завещанию” излагалась просьба позаботиться о родных и близких в случае неудачи.
Известие об арестах тревожной волной прокатилось по рядам активистов. С одной стороны, попытка похищения самолета высветила катастрофическую ситуацию с выездом из страны: до чего нужно было довести законопослушных людей, чтобы, рискуя жизнью, они пошли на такой шаг. А с другой стороны, если бы даже эта операция увенчалась успехом, она решила бы только личные проблемы участников, ставя под удар разъяренного КГБ оставшихся в стране родственников, друзей и соратников. Весь мир боролся с похитителями самолетов, и такого рода преступления безоговорочно и категорически осуждались. У советских карательных органов появился идеальный повод для расправы.
Ситуацию изменил приговор. ОНИ вынесли два смертных приговора за попытку, обошедшуюся без жертв и предотвращенную до того, как угонщики взошли на трап самолета. Всем стало ясно, что речь идет не о наказании преступников, а о расправе над теми, кто хотел эмигрировать из СССР.
“Первый секретарь обкома Ленинградской области, Толстиков, был, по-видимому, порядочным антисемитом, – комментировал возникшую ситуацию Эйтан Финкельштейн, – наказания были чудовищными! Вот если бы не было расстрельных дел, если бы сроки были умеренными, скажем 3-5 лет, то все бы промолчали, и был бы крупный провал – нас всех бы гоняли и может быть даже пересажали”.[12]
“По сведениям, собранным из разных источников… – писал Эдуард Кузнецов, – именно Толстиков (как всякий почти глава столь весомого надела, как Ленинград, рвавшийся в самые верхи партийной иерархии) настоял в Кремле на необходимости и желательности жесточайшей расправы с посягнувшими на побег из СССР, чтобы раздавить движение за эмиграцию, насмерть напугав его участников (по делам, связанным – зачастую очень условно – с нашим, было арестовано в разных городах 46 человек). Он и иже с ним промахнулись… Толстикова “опустили” и турнули послом в Китай, а потом и вовсе в Голландию”.[13]
Шансы на успех у операции “Свадьба” были самые минимальные.
– Я как человек уже отсидевший и не последний дурак на этой земле понимал, конечно, что дело это безнадежное, – вспоминает Кузнецов.[14]– Вот у нас было 16 участников. Для того чтобы они определились, нужно было переговорить с сотней-другой человек. Те, кто отказывался, секрет хранить были не обязаны… болтали и шушукались. Даже те, кто был внутри – человек так устроен, он не может… хоть подружке, хоть любовнице… Утечка была неизбежна.
– Почему же вы пошли на это?
– Давай я сначала расскажу про себя, а потом, если тебе будет интересно, обрисую психологическую мотивацию и ситуацию с остальными. Мое положение было довольно сложным. Я только что отсидел семерик и был под административным надзором, за мной следили. Стоило мне проявить минимальную активность, меня бы снова повязали практически ни за что… Так что для меня вопрос стоял таким образом: или сажусь за дело, или за просто так.
Я себе записываю в большую заслугу, что уже в те годы угадал тенденцию, которая позже привела к детанту. Мне приходилось общаться с крупными деятелями. У них была старая теория – менять все изнутри: “Мы понимаем, что все разваливается, что все сволочи, но вот надо порядочным людям входить в партию и менять все изнутри”. При этом они понимали, что экономическая ситуация в России была краховая – Советский Союз дозревал до “детанта”, т.е. в обмен на валюту, пшеницу, “ноу-хау” и все остальное власти готовы были попятиться в каких то вопросах. В чем именно они готовы были попятиться как раз и состоял вопрос. Если мы надавим на эмиграцию, то, возможно, в ней они и попятятся. Такое примерно у меня было соображение, и в нем я угадал.
– Но в то время Запад испытывал страх перед Советским Союзом, Израиль делал все возможное, чтобы, не дай Б-г, не рассердить его…
– Конечно. Но вот Максимов мне рассказывал, как он выпивал с Байбаковым, бывшим начальником Госплана, и лаял при этом на советскую власть. А тот ему: “Да ты что! Ты еще не знаешь ничего!.. Я вот выхожу на улицу и смотрю – трамваи ходят, окна светятся, телевизоры у людей работают – и думаю про себя: как же все это ухитряется работать?” Все пробуксовывало, все! Они сами прекрасно понимали, что они дозрели до детанта, до уступок… Нельзя, конечно, сказать, что я был уверен на все сто процентов, но у меня была такая теория, и я ее пропагандировал: “Ребята, если нажать, то есть шанс”.
Но и власти, конечно, загнали нас в угол. Люди подавали по несколько раз, получали отказы, и у них не оставалось никакого просвета: работы нет, из институтов повыгоняли… У нас собрался народ, который хотел действия, а не разговоров… У них была определенная иллюзия в отношении меня – мол, опытный, знает, как это делается… Но на самом деле, кáк я понимал ситуацию? Пенсон, кажется, ее высказал: “Пусть посадят, зато потом уж наверняка выпустят”. Это от безысходности.
Неоднозначно все… Вот мы шли к аэродрому… потом из дела мы узнали, что они стянули туда целый пограничный полк. За каждым кустом сидело по два-три солдата. Мы делали вид, что их не замечаем, они тоже отводили глаза. Мы знали на что шли, но так уж человек устроен, он не хочет себе до конца признаваться: авось что-то… – ведь они следили за нами и раньше, когда мы делали пробные полеты, и не арестовывали… Вдруг они нас снова проводят до самолета, подумают, что это очередной сходняк, сообщат куда надо – мол, вылетели, и все… Зная, как работает советская система, такой вариант тоже не исключался.
Трезво смотря на вещи, знал, что повяжут. Но если бы повязали втихую, до этого, то могли бы судить закрыто, и никто бы не узнал… Нам важно было, чтобы был скандал, и в этом наши интересы совпали с интересами ГБ. Им тоже важно было арестовать нас громко, чтобы показать – вот, мол, что представляют собой эти борцы за свободу выезда!.. – на самом деле это обыкновенные разбойники. Наши интересы совпали.
– А то, что Запад мог испугаться попытки похищения самолета?
– Ну, Бутман запросил Израиль для отмазки, чтобы отказаться… Израиль мог ответить только “нет”. Они же не знают… а может это провокация.
Пасли команду “похитителей” плотно. Еще в апреле председатель КГБ Андропов докладывал в ЦК, что сионистская организация Ленинграда совместно с националистами Риги планирует провести некую секретную акцию, относительно которой они намерены запросить мнение Израиля. “Комитетом госбезопасности принимаются меры по проверке полученных данных и недопущению осуществления возможных враждебных акций со стороны еврейских националистов”,[15] – заверял Андропов.
Какая уж там секретность! Семен Ария, адвокат Менделевича на процессе, свидетельствует: “Степень конспиративности напоминала одесский анекдот о шпионе, “который живет этажом выше”. Насколько я помню, в деле были сведения о том, что подбор желающих в Риге производился путем опроса публики на бульваре… В Ленинграде дети улетавших прощались с одноклассниками в школе…”[16]
КГБ готовил громкий процесс. Он хотел продемонстрировать ЦК и всему миру эффективность советских органов государственной безопасности и заодно заткнуть рот “всем этим борцам за права евреев” на Западе, показав, кого они защищают.
“Во время следствия, – пишет Менделевич, – происходят странные вещи: мужественные и замкнутые люди вдруг становятся робкими и разговорчивыми, даже тогда, когда без особого труда можно было бы промолчать. В лагере часто обсуждают этот “феномен податливости”. Предполагают даже, что в пищу заключенных добавляют химические препараты, ослабляющие волю подследственных. Но, по-моему, все обстоит проще. Страх перед КГБ, вселяемый в советского человека с детства, ломает его еще до допроса… А впереди у заключенного не героическая открытая схватка, а прозаическая ежедневная рутина следствия, требующая от него упорства и сопротивления.
Все это происходит на фоне полного отрыва от привычной жизни. И надо не сдаться, не забыть, во имя чего ты шел по такому опасному пути. Без веры в справедливость своего дела теряется чувство реальности… Ты без газет, без писем, без вестей из дому. И, может быть, все о тебе давным-давно забыли. Ты один. Один на один со следствием”.[17]
В начале ноября, когда следствие по самолетному делу близилось к завершению, в Советском Союзе произошло реальное похищение самолета. Два литовца, отец и сын Бразинскасы, бежали таким образом из Советского Союза. При этом они убили стюардессу и ранили двух пилотов.
“Ну, теперь вам всем вообще жарко придется!” – заметил следователь Менделевичу на допросе. “Он знал, что говорил, – писал Иосиф. – Чтобы отучить других угонять самолеты, нужно сурово покарать нас – для острастки. В связи с убийством стюардессы наш суд был отложен на месяц. Теперь он намечался на 15 декабря”.[18]
“Участники “Свадьбы”, – опишет позже юридическую сторону дела Семен Ария, – обвинялись в покушении на измену родине (попытка побега), попытке ocoбо крупного хищения (угон самолета) и в антисоветской агитации (“Обращение” с протестом против политического антисемитизма). Перед процессом все защитники были собраны, и председатель ленинградской коллегии адвокатов Соколов сообщил нам о рекомендации “директивных” органов – не оспаривать обвинение в измене. Поскольку клиенты наши виновными в измене себя не признавали, рекомендация эта была равносильна предложению о предательстве подзащитных. Оба московских адвоката (Ю.Сарри и я) пренебрегли поэтому рекомендацией ленинградского начальства и занимали в процессе пристойную позицию. Местные же коллеги были вынуждены подчиниться. Один из них, защитник Бодни, до такой степени проникся спущенной установкой, что даже после отказа прокурора в процессе от обвинения его клиента в измене (он пытался выехать к матери) – растерянно вопрошал нас, как ему теперь быть, можно ли соглашаться в этом с прокурором или возражать ему и признавать измену… Не осмелюсь осуждать их, у них были семьи…”[19]
Процесс проходил с 15 по 24 декабря 1970 года в старинном особняке на Фонтанке в помещении Ленинградского городского суда. Первый заслон милицейского оцепления был расположен метрах в ста от здания, второй и третий – внутри него. Впускали по особым пропускам, выдававшимся райкомами партии. Огромный зал суда, по описанию Арии, мрачный и плохо освещенный, был заполнен тщательно отобранной публикой. Безмолвно и отчужденно сидели родные подсудимых. Сценарий и исход этого спектакля были определены не в этих стенах и даже не в Ленинграде. Мужественно держались подсудимые, и это производило впечатление даже на такую специфическую аудиторию: дыхания ненависти из зала не ощущалось.
21 декабря судья огласил приговор. Кузнецов и Дымшиц получили высшую меру наказания – смертную казнь. Применительно к особым обстоятельствам дела – неосуществлению замысла и полному отсутствию последствий – наказание выглядело как чудовищная жестокость. Остальные подсудимые были приговорены к многолетним, от 10 до 15 лет, срокам заключения. Лишь Бодня получил 6 лет.[20]
Советский режим в очередной раз продемонстрировал свой жестокий оскал, но на этот раз он промахнулся. Вместо ожидаемого испуга в Советском Союзе поднялась волна протестов. Еще бόльшая волна поднялась на Западе.
23 декабря 1970 года в далекой Испании к смертной казни были приговорены баскские террористы, повинные в гибели нескольких полицейских. По Европе прокатилась волна демонстраций с требованием отмены смертных казней для них и для Дымшица с Кузнецовым.
– Ты знаешь, какую роль в твоей судьбе сыграл генералиссимус Франко? – спросил я Кузнецова.
– Ижо Рагер незадолго до своей смерти рассказал мне, что Голда Меир послала его с миссией к Франко, и Рагер убеждал его помиловать басков…
– Пятьсот лет прошло со времени испанской инквизиции, а генералиссимус Франко все еще помнил, что он из евреев…
– Демонстрации в Европе шли под лозунгом отмены “вышака”, и Рагер – я пишу об этом в моей последней книге “Шаг влево, шаг вправо…” – добился свидания с Франко как личный представитель Голды. “Один раз, – сказал Рагер генералиссимусу, – вы уже оказали неоценимую услугу нашим соплеменникам, не выдав евреев Гитлеру. Окажите ее еще раз – помилуйте людей, чьи руки обагрены кровью, ради спасения тех, чьи руки чисты”. Франко отменил смертную казнь и тем самым поставил Брежнева в дурацкую ситуацию: вроде коммунист, а менее гуманен, чем фашист. Так что по идее это подходит…109
У меня вначале были сложные чувства по поводу попытки захвата самолета. Грамотным мне этот шаг не показался. Но после смертных приговоров все сомнения испарились – правое дело снова было на нашей стороне. 22 декабря мы, группа свердловчан, собрались у Кукуя. Закрыв двери и зашторив окна, Валера тихо сказал: “Из Москвы пришел сигнал! От нас ждут письма по приговору”. Сигнал пришел от Эйтана Финкельштейна, но имя его не называлось.
Мы понимали, что означает для всех нас это письмо. Опубликовав открытый протест, мы пересекали черту, из-за которой нет возврата. Когда мы остались с Валерой наедине, он спросил: “Хочешь написать?” “Я готов”. “Я тоже, – сказал Валера. – Давай сделаем так: пусть каждый за ночь напишет свою версию, а утром мы их объединим”. “Идет”.
В ту ночь я не сомкнул глаз.
В восемь утра я пришел к Валере с несколькими исписанными страницами. Он прочитал и сказал: “Хорошо, давай возьмем твою бумагу за основу, я только подредактирую в нескольких местах и добавлю пару мыслей…”
Валера внес несколько исправлений и спросил: “Ты хочешь подписать первый?”. Я хотел… “Я тоже хочу, – сказал он. – Давай бросим монетку”.
Монета выбрала его.
Наше первое письмо было довольно резким, и мы понимали, что наибольший удар обрушится на голову того, чья подпись будет стоять первой…
Мы оба подписали, указав домашние адреса и номера телефонов. Потом пришли и подписали остальные… Володя Акс и Боря Рабинович присоединились к подписантам, и на этом две наши группы объединились. Боря Рабинович отправился отвозить письмо в Москву…
Я держу сейчас в руках это первое наше письмо, чудом сохранившиеся в отказной жизни пожелтевшие страницы… им уже тридцать пять лет. Сколько их было потом, таких писем… – не сосчитать, но это – первое – дороже всех.
Оно было адресовано Брежневу, Подгорному и Верховному Суду СССР.
“…Вынесенный приговор… является неоправданно жестоким и бесчеловечным… (Он) заставляет… вновь вспоминать черные дни периода культа личности…
Среди… осужденных… не было уголовных преступников, скрывающихся от советского суда. Они не были вооружены и не могли создать угрозы для жизни пассажиров и экипажа самолета. Их акция была пресечена в самом начале, и, по существу, налицо лишь замысел, а не попытка угона, тем более, не угон.
Единственной причиной, приведшей этих людей к мысли о захвате самолета… является отсутствие у них… возможности… выезда… законным путем… Большинство подсудимых… получали немотивированные и незаконные отказы… (Это) действия отчаявшихся людей, на которые их толкнуло несоблюдение властями законов своей собственной страны…
Миллионы евреев во всем мире и в СССР питают искренние симпатии к Израилю, считают его символом и реальностью национального возрождения еврейского народа… Нетрудно себе представить… состояние человека… стремящегося принять… участие в… процессе национального возрождения… и получающего в этом отказ от официальных властей… Чего же хотят добиться власти? Устрашения или справедливого решения вопроса? Загнать болезнь внутрь или устранить причины, ее вызывающие?
Приведение в исполнение вынесенного судом приговора неминуемо оставит несмываемое пятно жестокости на мундире советского правосудия… Мы обращаемся к Вам, исполнителям высшей власти и законности Советского государства, с решительным требованием отменить смертные приговоры Дымшицу и Кузнецову.
Мы требуем полного соблюдения конституционных прав и гарантий советских граждан, в том числе и безотлагательного предоставления возможности выезда тем, кто этого пожелает…
Мы сочли необходимым копию данного письма направить также правительству Государства Израиль с просьбой, если оно сочтет это необходимым, ознакомить с его содержанием мировую общественность”.
По израильскому радио зачитывали письма протеста. Их было много (свое веское слово сказали А.Сахаров и В.Чалидзе)… Потом Франко отменил смертную казнь баскским террористам – нам это казалось чудесным совпадением… Мы ждали, затаив дыхание: неужели даже сейчас власти не образумятся?..
Через несколько дней смертные приговоры Дымшицу и Кузнецову отменили… Мы были горды и счастливы… За нами уже начали следить, но мы упивались победой, в которой, как нам казалось, была доля и нашего участия.
Мы тогда еще не знали, какие силы пришли в движение в результате Ленинградского процесса. “В 1973 году, – рассказывал мне Кузнецов, – когда освобождали Сильву, она заявила, что не уедет, пока ей не дадут со мной свидания. Меня привезли в Лефортовский гэбэшный изолятор. Там меня вызвал на беседу генерал, назвавшийся Иваном Ивановичем Рудерманом. Он сказал: “Если бы мы знали, что так развернется, дали бы вам улететь… и были бы вы обычные воздушные пираты, а нам не пришлось бы расхлебывать кашу с бесконечными протестами Запада…”
Адвокат Семен Ария так описывает процесс кассации:
“Обсудив с Менделевичем и его родными наши дальнейшие шаги по обжалованию приговора, подавленный, я вернулся в гостиницу, и мы с коллегой начали готовиться к отъезду в Москву. Однако уехать не пришлось. В 11 часов вечера раздался телефонный звонок, и судья Ермаков предложил нам срочно приехать к нему. Я возразил: у меня на руках билет на поезд, мы на выходе. “Билет мы заменим, – сказал Ермаков, – не беспокойтесь”. Когда мы, недоумевая, вошли в кабинет судьи, все адвокаты были уже там. Ермаков сказал: “Сообщаю вам следующее. Дело наше через три дня будет слушаться в кассационном порядке Верховным судом. Поэтому завтра, в субботу, и в воскресенье для всех вас будет работать изолятор КГБ и канцелярия суда. За эти два дня вы должны успеть изучить протокол судебного заседания, подать свои замечания на него, помочь осужденным составить их жалобы, составить и отпечатать ваши и сдать их. В воскресенье вечером дело самолетом будет отправлено в Москву, а во вторник рассмотрено Верховным судом. Вопросы есть?.. Ни объяснить, ни понять ничего не могу, – добавил Ермаков, – но таково распоряжение оттуда”. – И он поднял палец к потолку.
Едва я на другой день утром явился с вокзала домой, раздался телефонный звонок, и наш адвокатский глава Быков сказал мне: “Сеня, срочно позвони Смирнову. Он у себя в ждет твоего звонка. (Л. Н. Смирнов был председателем Верховного суда России.) Я в очередной раз поразился: “Сейчас восемь часов утра. Невероятно, чтобы он работал с такого часа!” “Звони, – ответил Быков, – он на месте, он в семь поднял меня”. Действительно, Смирнов был у себя. Когда секретарь соединил нас, раздался характерный гулкий голос: “Товарищ адвокат! Я знаю, вы только что прибыли. Но я лично всю ночь читал известное вам дело. В нем нет вашей жалобы. Вместо нее лежит то, что вы называете “летучкой”. Поэтому вам нужно приехать сюда, и к вечеру извольте сделать нормальную жалобу. На утренний чай вам дается 30 минут. Все ясно?” Назавтра, 28 декабря, мне снова пришлось преодолевать два кордона оцепления, чтобы пройти к залу, где предстояло кассационное рассмотрение нашего дела. Там на задней скамье уже сидел академик Сахаров с тремя вразброс приколотыми звездами Героя (тогда они еще не были отобраны)…
В коридоре мне встретился знакомый прокурор, и я спросил его, что происходит и как все это понимать. Он объяснил, что президент Никсон по прямому телефону позвонил Брежневу и обратился с личной просьбой – не портить американцам Рождество, заменить до нового года смертные приговоры по делу! Брежнев, в свою очередь, попросил о том же кого надо у нас. А когда те робко заикнулись, что, дескать, будут нарушены законные сроки, Брежнев счел это бестактностью и даже слушать не стал. Пришлось исполнять… “Так что сейчас у вас там и будет происходить замена высшей меры по Никсону, а не по УПК”, – заключил мой знакомый”.[21]
Когда я спросил Джерри Гудмана, генерального директора “Национальной конференции в поддержку советского еврейства” в США, как они могли защищать потенциальных похитителей самолета в западных средствах массовой информации и в коридорах власти, он ответил:
“Я не использовал слова “похищение самолета”, потому что по закону это не было похищением… Одна из базовых вещей в пропаганде – знать, чтό ты делаешь, и быть осторожным в том, кáк ты это формулируешь. Похищение самолета имеет точное определение. Самолет должен быть в воздухе, захват самолета осуществляется вместе с его пассажирами… У них был их собственный пилот. Они крали государственную собственность – да. Они могли бы украсть грузовик, что-то другое. Тот факт, что вы летите, в данном случае не имеет значения. Это не было похищением самолета в классическом смысле этого слова. Мы научились это формулировать, и это было важно. Когда это случилось и ОНИ начали арестовывать молодых людей в разных городах, американская Конференция собралась снова и заявила: мы не можем продолжать действовать, как прежде. Затем в декабре был суд, и Дымшиц с Кузнецовым были приговорены к смерти. Тогда мы срочно созвали в Вашингтоне большую встречу лидеров организаций, на нее прибыла тысяча человек. Мы сформировали делегацию и организовали встречу с президентом Никсоном Я не был членом этой делегации, был еще слишком молод и недостаточно важен тогда… В результате они сумели отменить смертный приговор, и ребята получили по 15 лет. После этого “Конференция” встретилась еще раз, и “Лишкат Акешер” (другое название “Натива”) заявила, что теперь мы должны делать намного больше, чем до сих пор. Руководство приняло решение создать постоянно действующую группу. В июне 1971 года была создана “Национальная Конференция в поддержку советских евреев” с офисом, собственным бюджетом и штатом… Освобождение Дымшица и Кузнецова стало одним из самых ярких моментов моей жизни, но это уже другая история…”
После пересмотра приговоры выглядели следующим образом:
Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц и Юрий Федоров – по 15 лет;
Алексей Мурженко – 14 лет;
Иосиф Менделевич – 12 лет;
Сильва Залмансон, Анатолий Альтман, Лев Хнох, Борис Пенсон и Вольф Залмансон – по 10 лет;
Израиль Залмансон – 8 лет
Мендель Бодня – 4 года.
Многие из них выйдут досрочно и получат разрешения на выезд в Израиль. Сильву Залмансон освободят уже в 1974 году в обмен на советского шпиона Юрия Линова, пойманного в Израиле,[22] Эдуарда Кузнецова освободят 27 апреля 1979 года.
После Ленинградского процесса борьба за выезд вышла на новый, более активный уровень.
[1] Гилель Бутман, “Ленинград – Иерусалим с долгой пересадкой”, библиотека “Алия”, 1881, стр.126-127.
[2] Там же, стр 161.
1. [3] Там же, стр. 163.
2. [4] Там же, стр. 171-172
[5] Там же, стр. 178.
[6] Из беседы с Г. Бутманом. Цитируется по Б.Морозову, “Еврейская эмиграция в свете новых документов”, Центр Каммингса, Тель Авивский Университет, 1998, стр.78.
[7] Эйтан Финкельштейн, интервью автору, 18.06.2004.
[8] Гилель Бутман, “Ленинград – Иерусалим с долгой пересадкой”, библиотека “Алия”, 1881, стр.200.
[9] Йосеф Менделевич, “Операция свадьба”, “Мидраша Ционит”, Киев, 2002, стр. 62
[10]Там же, стр. 203.
[11] Из текста “Завещания”, архив ассоциации “Запомним и сохраним”.
3. [12] Эйтан Финкельштейн, интервью автору, 18.06.2004.
[13] Э.Кузнецов, “Шаг влево, шаг вправо…”, “Иврус”, 2000, стр. 6.
[14] Э.Кузнецов, интервью автору, 18.05.2004.
[15] “Еврейская эмиграция в свете новых документов” Б.Морозов Центр Каммингса, Тель Авивский Университет 1998, стр. 76-77.
4. [16] “Самолетное дело” http://www.ijc.ru/istoki10.html
[17] Йосеф Менделевич, “Операция свадьба”, “Мидраша Ционит”, Киев, 2002, стр.75.
[18] Там же.
[19] По материалам: Семен Ария, “Самолетное дело”, http://www.ijc.ru/istoki10.html
[20] Там же.
[21] По материалам: Семен Ария, “Самолетное дело”, http://www.ijc.ru/istoki10.html








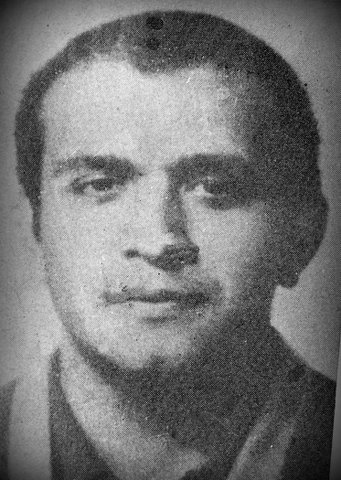

![Вульф Залмансон]](http://kosharovsky.com/wp-content/uploads/2012/04/Zalmanson_W1.jpg)