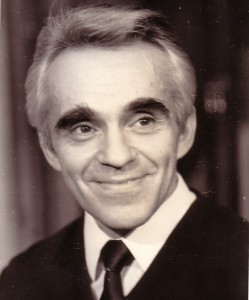─ Алик, для начала мне нужно несколько твоих биографических данных. Когда ты родился?
─ Я родился 28 июля 1938 года в Ленинграде. Через два месяца после этого знаменательного в моей жизни события я стал московским жителем и оставался им вплоть до нашего отъезда с небольшим перерывом на эвакуацию. Мы жили в центре Москвы недалеко от артиллерийской академии, где преподавал мой отец.
─ А откуда родители?
─ Папа родился на какой-то небольшой железнодорожной станции около маленькой деревушки Драбово на Украине. Мама родилась в местечке Ромны, Полтавской области. Все это черта оседлости. Семья у мамы была очень религиозная, а родители отца, наоборот, очень эмансипированные.
У мамы была огромная семья, у нее было девять братьев и сестер. Один умер очень рано, один был арестован за сионизм и исчез. Это было где-то в конце 30-х годов. Двое пропали во время войны, а остальные перебрались в Ленинград и жили там. Родители мои смолоду попали в революционные годы и, конечно, революционная волна их с собой понесла. Папа был активным комсомольцем с 16-ти лет, и в 18 лет он уже был направлен на работу уездным секретарем комсомола как раз в то место, где жила моя мама. Это в Ромнах. В 1925 году в 20 лет он уехал учиться в Москву в МВТУ, там он тоже был секретарем комитета комсомола студентов МВТУ, а потом был какой-то партийный призыв в армию в 30-м году, и его направили учиться в академию в Ленинград. Он окончил академию, там остался, защитил диссертацию, потом, в 1938 году, академию перевели в Москву, и так мы переехали вместе с ней и жили уже в Москве.
─ В 1938 году ему было 33 года…
─ Да…
─ Он был уже с диссертацией, с ученой степенью при такой бурной юности?
─ Не знаю, учились ли они в бурной юности, у них там было много всего… а до нее папа учился в нормальной гимназии. Мама тоже в 1925 году уехала в Ленинград, там училась в институте детской педагогики (тогда она называлась педология), потом этот институт распустили – педология была признана антимарксистской наукой. Она уехала преподавать на Урал в Ирбит и через три года вернулась в Ленинград.
─ Твой отец стал ученым?
─ У отца биография сложилась сложная и неровная. Ему в жизни крепко досталось. Он начинал как очень способный инженер-исследователь в области артиллерийских приборов в академии, потом после войны он некоторое время работал в Москве в Главном артиллерийском управлении…это уже была работа не научная.
─ Он воевал?
─ Он проводил много времени на фронте как военный инженер, но в действующих войсках он не был. В 49-м году его выгнали из армии и из партии, но не по еврейской части.
─ Была же кампания против «безродных космополитов»?
─ Нет, это было другое. Там была какая-то внутренняя кампания, когда помели под гребенку огромное количество офицеров. Он был полковником, а в основном там люди были в генеральских и маршальских званиях. Генералов и маршалов арестовали, а полковников и ниже повыгоняли, но не посадили.
Это была внутренняя разборка в армии. Никакой кампании в прессе не было. Те, кого не арестовали, подверглись страшному остракизму. Мы жили в военном доме ─ все друг друга знали. Это был огромный дом, более 150 квартир, и обстановка во дворе была ужасной. Тогда я узнал, что я еврей. Это была тема номер один всех разговоров. А приказ о выселении нашей семьи из дома пришел 1 марта 1953 года. Он, видимо, уже имел также и еврейскую подоплеку, хотя и был издан военной прокуратурой.
─ Ты пытался тогда разобраться в причинах?
─ Нет, ты что? Тогда-то, упаси Бог…
─ А потом?
─ Когда я уже стал взрослее, многое стало понятно… Родители не говорили о том, что произошло с отцом, до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет, то есть я понимал, что что-то происходит, потому что папа проводил много времени дома, но он тем не менее каждый день куда-то уходил, видимо, он искал работу… В тот день Инна, моя сестра, рассказала мне, что произошло.
─ У вас была совершенно ассимилированная семья?
─ Абсолютно… в том, что касается нас. В отношении родителей в меньшей степени, потому что мама прекрасно говорила на идише, папа тоже, просто меньше им пользовался. Они часто ходили в еврейский театр. Нас, следующее поколение, это уже не интересовало. После смерти Сталина все стало возвращаться на круги своя… Где-то уже в начале лета 53-го года было аннулировано решение об исключении папы из партии. Но на прежнюю работу он не вернулся. Его отправили военпредом на какой-то завод. И он доработал еще два года до пенсии. А на пенсии он нашел себе прекрасную работу. Он заведовал лабораторией, которая занималась разработкой технических средств для биоэлектрических протезов.
─ Отец до конца остался ортодоксальным коммунистом?
─ Нет, не остался, но он любил свою молодость. Там было много интересного, да и много друзей с тех пор осталось.
─ Он возражал против вашего отъезда?
─ Да, он был очень против. Он даже не хотел разговаривать на эту тему… ему как-то больно было об этом говорить. Это притом, что его дядю, который преподавал математику в Промакадемии, расстреляли в 1938 году.
─ Фамилия Иоффе в научных кругах очень известна. Академик Иоффе…
─ Отец Абрама Федоровича Иоффе был, как я понимаю, братом моего прадеда, который крестился, и это привело к расколу в семье. У отца в родне было довольно много известных людей. И они время от времени проявлялись как родственники, но Абрама Федоровича я никогда не видел.
─ У тебя только одна сестра?
─ Да, Инна, а двоюродных братьев и сестер у меня здесь несколько. Аня Холмянская ─ моя племянница, дочка моего двоюродного брата.
─ Я слышал, что ее папа тоже крупно работал…
─ Не так крупно. Он сейчас здесь, тяжело болен, к сожалению. Одна двоюродная сестра приехала в Израиль в 1958 через Польшу, еще три – в начале 90-х, одной из них уже нет …
─ Кем ваши родители хотели вас видеть?
─ Я, честно сказать, не знаю, кем родители хотели видеть Инну, но ее выбор был вполне сознательным. Меня же папа хотел видеть инженером, и это была его ошибка. Он все время толкал меня во всякие инженерные кружки, а меня это мало привлекало. Я потерял на этом довольно много времени.
─ Ты окончил какую-то специальную школу?
─ Нет, это была обычная школа, но хорошая школа. Школы в центре Москвы тогда были хорошие. Хорошие преподаватели и хорошая обстановка в школе.
─ Как ты окончил школу?
─ С золотой медалью. Атмосфера в школе была очень благожелательной, и я остался ей очень благодарен. У меня осталось с тех пор много друзей.
─ Интерес к математике проявился в школе?
─ Да. К сожалению, папа этот интерес не уловил. Я пошел учиться в МАИ и очень скоро понял, что мне скучно. После окончания МАИ я в 1962-м поступил в университет на вечерний инженерный поток по математике. Я уже знал, что мне нужно.
─ С 1955 по 1961 год ты заканчиваешь инженерный институт – МАИ, с 1962 по 1966 год ты на вечернем потоке университета…
- И параллельно работал, конечно, …в ящике. В 1967 году я защитил диссертацию. Она была уже по сути математической, хотя в основном посвящена делам вполне инженерным: оптимальным траекториям наведения истребителей-перехватчиков.
─ А когда ты ушел из ящика?
─ В 1972 году.
─ Шестидневная Война на тебя как-то повлияла?
─ Ну еще бы, конечно… это было замечательное событие. Мы понимали ситуацию к тому времени. Все было проговорено, книжки были прочитаны, но еще не было полного ощущения национальной идентификации.
─ А эта жуткая антиизраильская пропаганда, которая развернулась после войны?
─ Воротило, конечно, от всего этого. Но еврейская тема еще не была доминантной. Было общее неприятие того, что происходит, и всей системы в целом. Понимание того, что здесь уже жить невозможно и надо ехать. Начало приходить где-то в конце 71-го. Но, пожалуй, только в 73-м мы это ясно для себя сформулировали. Я даже помню, как это произошло: на второй день войны Судного Дня мы с друзьями собрались по какому-то поводу, и я резко и эмоционально среагировал на неудачное замечание моего близкого друга (к войне не имевшее отношения)… В начале 1974 года мы заказали вызов.
─ Когда ты начал участвовать в работе семинаров?
─ К Лернеру я пришел где-то в 1972 году. В 1975-м сделал у него доклад. А на семинар у Вити Браиловского пришел осенью 1977-го, уже после подачи. Это был в большей степени научный семинар. Притом, что у нас практически не было двух людей, работающих в одной и той же области, семинар сыграл для меня очень положительную роль. Во многом благодаря ему я сумел остаться в науке. Мне, правда, повезло: меня не выгнали окончательно с работы, в большой степени, как я думаю, благодаря поддержке моих французских коллег. Ну и кроме того, ректор (я работал в Автодорожном институте), который был порядочным человеком (насколько может себе позволить быть порядочным ректор института) в общем не хотел меня выгонять, хотя на него оказывалось давление со стороны общественных организаций. Профсоюзный комитет института даже принял специальное постановление. Ректор убрал меня с доцентов, отстранил от преподавания и предложил должность научного сотрудника. Некоторую роль видимо сыграло и то, что он был то ли президентом, то ли вице-президентом международной федерации автомобильного спорта, и ее офис располагался в Париже.
─ У тебя уже были публикации за рубежом?
─ Нет, первая публикация «за забором» ─ это уже 1976-й. Но в конце 60-х и в начале 70-х было несколько хороших публикаций, в частности книга, написанная вместе с Володей Тихомировым (моим учителем и ближайшим другом до сегодняшнего дня), опубликованная в 1974-м и оказавшаяся весьма успешной. Кроме того было несколько крупных всесоюзных конференций с участием иностранцев. У меня, правда, не было права общаться с иностранцами из-за допуска, но конференции были формально всесоюзными, и я не информировал первый отдел о возможном участии кого-либо из-за рубежа.
─ Ты практически работал до последнего дня?
─ Я работал до последнего дня.
─ Ты при этом находил время на участие в семинарах, в отказных протестах и в работе Машки*. Как шел процесс перехода в отказную жизнь?
─ В отказную жизнь я начал входить еще в 1972 году. Я бывал на семинаре Рубина… после того, как ушел из ящика. Это произошло в 1972 году. Найти новое место работы было непросто тогда, а уйти и остаться без работы я не мог себе позволить.
─ Когда ты почувствовал, что отказная активность стала для тебя важней, чем все остальное?
- Довольно скоро. Дело в том, что я работал, чтобы только зарабатывать деньги на жизнь. Работа эта была нужна только постольку, поскольку я не мог уехать. Она меня уже не слишком интересовала. К моим научным интересам она имела отдаленное отношение и скорее мешала заниматься тем, что меня интересовало. Первые год-полтора после подачи я еще подрабатывал частными уроками математики: зарплата научного сотрудника была на треть меньше, чем у доцента, и Роза потеряла работу.
─ Ты занимался ивритом?
─ Да, мы начали заниматься в 1972 году. У нас была группа: я, Роза, Влад Дашевский и еще два человека из ИЗМИРАН’а (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук). Занятия происходили у нас дома. Учителем был Алеша Левин, но он вскоре уехал, а следом за ним и второй учитель ─ Фима Крайтман. Оба были из первых энтузиастов и дали нам очень много. А в начале 1974 года умерла мама, и я уже не смог возобновить занятия до самого отъезда.
─ Кругом были посадки и обыски. В это время ты проявлял большую активность. Это потому, что ты довольно поздно присоединился и еще не выработал ресурс, или просто почувствовал себя свободным человеком?
─ У меня было ощущение, что нечего скрывать, дело наше правое… а потом – да, я чувствовал себя свободным. Ну и, конечно, у нас было много замечательных знакомых, у которых я многому научился.
─ Ты вошел в наши дела без страха, у тебя была аура свободного и живого человека, ты бегал свои кроссы… У тебя был спокойный, без надрыва, аналитический подход ко всему.
─ Может быть, черт его знает. Мне все же кажется, что поначалу мы больше плыли по течению и лишь через некоторое время после получения отказа стали задумываться, как организовать жизнь.
─ У нас не было никакого сомнения, что ты должен стать членом Машки, хотя там собрались люди, которые много лет во всем этом крутились. Как ты сам воспринимал все это?
─ В Машке меня больше всего привлекали люди. Сионизм ─ это замечательно, но идеологическая сторона его меня никогда особенно не волновала. Для меня было вполне достаточно тезиса о праве евреев на независимое национальное существование
─ На твоем уровне ты вполне мог устроиться где-нибудь во Франции. Ты же приехал в Израиль.
─ Это было решение человеческое, а не идеологическое. В Израиле были люди, с которыми мне приятно быть, и люди, которых я не мог обижать своим отъездом в Америку. Если угодно, так. У меня всегда было неприятное ощущение от того, что люди, которые рвали на себе рубашку там, уезжали из Израиля. Но неприятно все же не идеологически, как я теперь понимаю, а потому что тем самым они оскорбляли людей, с которыми они жили рядом и работали.
─ Проблема была в том, что они уезжали на Запад по израильскому каналу, захватывая места тех, кто хотел ехать в Израиль.
─ С этим я не соглашался тогда тоже. Я понимал, что нет другой возможности уехать. Но если ты выбираешь такой путь, то, уже подавши, по крайней мере, веди себя честно.
─ Прекрасно, но лучше идти напрямую в американское посольство или, на худой конец, проехать через Израиль. Понятно, что они при этом теряли какие-то льготы… Проблема была в том, что эта категория людей в балансе своих интересов совершенно не учитывала интересы алии.
─ Ну, в то время совет идти напрямую в американское посольство был не слишком серьезен, мягко говоря. А вот с позиции сегодняшнего знания ты действительно думаешь, что нешира очень сильно помешала алие? Что она реально негативно повлияла на алию?
─ Я думаю, что в те годы Советы сами не знали, что делать, чтобы остановить алию, и метались между давлением арабских стран, которые требовали прекратить выпуск евреев, и давлением Запада, который остро реагировал на борьбу тысяч пассионариев, готовых идти до конца внутри Союза. Бегство на Запад воспринималось как дезавуирование основных тезисов советской пропаганды, а воссоединение семей, в рамках которого они давали разрешения, выглядело более-менее понятно. Все знали, что ценой какой-то крови Советы могли раздавить выездное движение евреев. Они делали в прошлом вещи и более страшные.
─ Я все это понимаю. Но это аргументация двадцатилетней давности. Я и тогда не думал, что идеологически эмиграция в Израиль была для Советов более приемлема, чем эмиграция на Запад. Да и сам тезис о «воссоединении семей» давал им дополнительные возможности для пропаганды против алии, которыми они отнюдь не брезговали пользоваться. Как ты думаешь, если бы нэширы не было, из Союза уехало бы больше народа? Не в Израиль, а из Союза.
─ Я думаю, что больше народу приехало бы в Израиль.
─ Существенно больше народу приехало бы в Израиль?
─ Я думаю, что существенно больше народу приехало бы в Израиль, и часть из них уехала бы из Израиля на Запад.
─ Думаешь ли ты, что Советский Союз выдавал бы большее количество разрешений на выезд, если бы не было нэширы?
─ Это сложный вопрос. Там были вещи, которые играли значительно большую роль, чем отношения «эмиграция – советские власти»: Вьетнамская война, Афганская война, например, где Союз и Штаты, хотя и косвенно, но воевали друг против друга. В такой стране, как Союз, наплевательское, на глазах у всего мира, отношение к порядку выезда, который они установили (и причины, по которым они установили именно такой порядок, а не другой, мы сейчас не будем анализировать, достаточно указать на пример, который евреи показывали другим угнетенным нацменьшинствам) вызывало, безусловно, их нервную реакцию, которая была чревата полной остановкой алии. Количественно же оценить трудно.
─ Да, но в целом их политика, как мне кажется, определялась какими-то другими соображениями…
─ Политика определялась многими соображениями, включая названные, и на них мы, активисты, могли влиять. Было много соображений, которые были за пределами нашего контроля. Были люди, у которых была антисоветская доминанта. Они говорили: «Плевать, съедят». То есть для них важнее была борьба против режима. Этим людям было наплевать на алию. А мы хотели играть по правилам. Получил вызов из Израиля, поезжай в Израиль, а потом делай что хочешь. Ты потеряешь какие-то льготы, тебе будет немного труднее, но Израиль свободная страна, выезд не ограничен.
─ Да, но по этим правилом могло выехать меньшее количество людей. Кроме того, те, кто уезжал из Израиля вскоре после приезда туда, часто были вынуждены оправдываться, выливая на Израиль ушаты грязи.
─ Да, это известный тезис – что важнее, спасать людей из России или вывозить их в Израиль? Это два разных подхода.
─ На самом деле и то и другое важно…
─ Они не противоречат друг другу. Люди, которые хотели ехать на Запад, имели возможность это делать. Как я сейчас понимаю, Израиль действительно был не в состоянии обеспечить работой всех людей такого высокого профессионального уровня.
─ Любого уровня… он был не в состоянии переварить полностью эту алию, и это трагично, потому что он потерял существенно бо́льшую долю молодых людей. Люди пожилые оседают, как правило, здесь. Израиль на самом деле совершает акт большого благородства – он дает приют большому количеству людей, которые не в состоянии себя прокормить. Другая страна, скорее всего, этого бы не выдержала.
─ Многие еврейские семьи этим благородством нагло воспользовались.
─ Это печально по-человечески. Это скорее человеческая непорядочность, нежели идеологическая некорректность.
─ Я тоже не ищу здесь идеологии. Во всяком случае, ее нельзя прилагать к тем, кто ее не знает или не приемлет. Подход был очень прагматический. Мы боролись за то, чтобы пробить этот путь в Израиль. Мы были не против того, чтобы к нам присоединились люди, которые по каким-то причинам хотели жить в другом месте. Не против. Но, ребята, играйте по правилам. Этот путь достался нам очень дорого. Вот единственное, что мы говорили. Нет тут особенной идеологии…
─ Ну, тогда у нас с тобой согласие.
─ Глядя назад, ты видишь эти годы как нечто большое в твоей жизни?
─ Конечно, конечно… И с течением времени это ощущение лишь усиливается. Но профессионально это были потерянные годы. Первое время я еще мог работать продуктивно, но с 82-го произошел заметный спад. И первые годы в Израиле это чувствовалось.
─ Ты переключился на другие дела?
─ Я переключился на отказные дела, и у меня, в общем, не было среды, в которой я мог профессионально функционировать. Несколько человек из моих математических друзей продолжали поддерживать со мной добрые отношения и здорово мне помогали.
─ У тебя же было много иностранцев, с которыми надо было потом поддерживать отношения, нужно было понять отказной мир и глобально мир вокруг отказа – задача на полную ставку. Потом, тебе уже наверняка помогали материально, и ты не нуждался.
─ Да, конечно, и это было важно. Разбогатеть не разбогатели, не это было целью, но и за куском хлеба в очереди не стояли.
─ Израильские ученые приезжали на семинар?
─ Приезжали. С некоторыми из них сложились хорошие отношения. Но активная деятельность в поддержку семинара в основном шла из Америки и Европы. В Америке была отдельная организация, а в Европе за этим стоял один из замечательных израильтян, Барух Эяль. Он многие годы был советником израильского посольства во Франции, а когда вернулся, заведовал отделом алии в министерстве науки.
─ Семинар был напрямую связан с Лишкой?
─ Я-то напрямую нет. Но мы знали, что у нас есть Юлий Кошаровский и все в полном порядке. Семинар был очень важен для нас самих, и это было связано с особенностями нашего воспитания. Крупные ученые всегда представляли для евреев Союза очень важную референтную группу. Помимо уровня анализа, знания некоторых советских реалий, которые были у членов этого семинара.
– Что произошло с тобой после ареста Виктора Браиловского в ноябре 1980 года?
– Когда рассматриваешь все это в ретроспективе, начинаешь понимать, что развиваться начало немного раньше. У меня в конце сентября произошло интересное событие. Меня вызвал к себе ректор Московского автодорожного института, в котором я работал. До подачи я там преподавал. После подачи перестал. Меня не уволили. Он меня отстранил от преподавания: сказал сразу, что не может позволить мне никаких контактов со студентами. Меня удивило, что он не сказал, что уволит меня. И хотя была попытка уволить, профсоюзный комитет собирался и вынес постановление. Я подал документы на выезд в 76-м году. Так вот, он вызвал меня и сказал, что получил информацию о том, что меня собираются отпустить.
– Ты ушел из ящика в 72-м году?
– Да. Я спросил его – когда? Он сказал, что это ему неизвестно, но ему сказали, что скоро дадут разрешение. Это был конец сентября 80-го года. После этого ничего не происходило, абсолютно. Все как будто оставалось без перемен. Мы, естественно, были на некотором взводе. А потом арестовали Виктора.
– Олимпиада уже прошла. Давать тебе обещание просто для того, чтобы успокоить, не было никакого смысла.
– Я думаю, что имелся в виду арест Виктора.
– Как ты это видишь?
– Я тебе расскажу последовательность событий. Арестовали Виктора. В первое же воскресенье после ареста, когда мы пришли на семинар, там уже стояла публика из ГБ. С нами пришли несколько иностранных ученых, которые должны были делать доклад на семинаре. Гэбэшники отказывались пустить нас в дом. Мы там стояли и переругивались с ними где-то около часа. Мы не ожидали, что нас не пустят. У нас было в принципе решение, что семинар должен продолжаться. Я помню, мы обсуждали это с Юрой Гольфандом, с Марком Фрейдлиным.
– Продолжаться после ареста Виктора?
– Да. Мы там простояли час и, в конце концов, решили, что все равно проведем семинар, и отправились ко мне. Почти все пошли. Мы провели его спокойно, никто нам не мешал. Нас сопровождали, конечно. Та же история повторялась в следующее воскресенье.
– Пошли к тебе, потому что ты предложил? Или были альтернативы?
– По-моему, мы поговорили с Юрой Гольфандом и пригласили всех ко мне.
– Было страшновато? Только что арестовали человека, не пускают на семинар…
– Мы были все на страшном взводе. Такое явное состояние конфронтации. Та же история была в следующее воскресенье, когда мы пошли к Юре Гольфанду. Потом в течение года-полутора мы меняли места семинаров.
– Но Браиловского судили не за семинары. Его судили за журнал «Евреи в СССР».
– Да. Но я как-то не уверен, что тот факт, что он вел этот семинар на протяжении трех лет и делал это хорошо, сохранив качество семинара, не сыграл своей роли. А потом недели через две раздается звонок из ОВИРа и говорят, что мне отказано. Я им сказал, что не подавал заявления о пересмотре. А за пару дней до этого дверь нашей квартиры (она была обита кожей) подожгли ночью. К счастью, я не спал, да и сын проснулся, и мы быстро потушили огонь. Мы все это сопоставили и поняли, что, по-видимому, сообщение ректора о том, что мне будет дано разрешение, имело целью, чтобы я вышел из семинара или что-то в этом роде. А последующие события подтвердили это. Я не отошел, и они меня таким образом пожурили.
– В это время также начались афганские события, международную арену начали затягивать тучи, конфронтация довольно сильная шла.
– Когда пошли аресты, начиная с Виктора и других, мы еще не связывали это с международными событиями.
– Они просто начали активно разрушать всё. Началось давление на семинары.
– Своеобразное, надо сказать, давление. Это продолжалось недель пять-шесть, когда мы приходили туда, а они нас не пускали. А попытки помешать нам провести семинар в другом месте я не помню.
– Это инерция оперативного уровня в КГБ. Решение по поводу вас принималось на более высоком уровне. Пока решение приходило вниз, вы уже успевали провести семинар в другом месте.
– Трудно сказать, не берусь объяснять логику их поведения. Правда, количество людей, посещавших семинары, уменьшилось. Собиралось десятка два народа, но таких больших сборищ, которые бывали у Виктора, не было. Несколько раз с нами бывали корреспонденты, у которых они довольно грубо отнимали камеры, когда те начинали фотографировать. Иностранные гости тоже приходили, но их не пускали. Я точно не помню, но, по-моему, среди них был Дэвид Гросс, крупный американский физик, родившийся, кстати, в Израиле. Он недавно стал Нобелевским лауреатом.
– Семинар – это ведь не только квартира. Нужно было оповещать о месте, заботиться о «портфеле» лекций и лекционных тем, согласовывать с иностранными гостями.
– Распорядок лекций это вещь мобильная. Как только кто-то приезжал, мы все меняли – нужно было дать трибуну приехавшему человеку.
– Кто этим занимался? Это был один человек или каждый раз был кто-то другой?
– Все вместе. Этим занимался я, Марк Фрейдлин, Яша Альперт. Мы это все вместе обсуждали и планировали.
– А кто поддерживал переписку с иностранными учеными или каналы связи с ними? Был это кто-то один или каждый сам по себе?
– До ареста Виктора это были, в основном, Виктор и Ирина. Хотя люди приходили на семинар по-разному. Если, например, приезжает мой коллега, то он, естественно, приходит ко мне или предупреждает меня, и тогда мы вместе приходим на семинар. Обычно, как я говорил, это происходило либо у Яши Альперта, либо у Марка Фрейдлина, либо у меня. Об этом сообщалось на предыдущем семинаре. А потом, примерно через год, мы решили осесть, и это была квартира Альперта. Но контакты были распределены. Я помню, что я разговаривал со многими людьми по телефону. И Яша Альперт, конечно.
– Какие-то крупные вещи вы планировали?
– Конечно. Планировали еще две конференции, которые у нас не состоялись: никто из потенциальных зарубежных участников визы не получил. Но конференции за рубежом все же прошли в запланированные сроки, без нашего участия, конечно.
– Это был уже 81-й год?
– У меня есть труды этих несостоявшихся конференций. Это были 81-83-й годы. Я проверю даты.
– Кроме того, семинар был таким коллективным органом, который разворачивал борьбу ученых Запада за алию.
– Несомненно. Это было частью постоянной деятельности. Мы информировали о происходящем. Телефонные контакты все время продолжались.
– У тебя был постоянный канал?
– У меня не было постоянного канала. И вообще того, что ты называешь постоянным каналом, то есть того, что требовало еженедельных телефонных разговоров, не было. Но общение с учеными происходило постоянно. Масса людей появлялась. Если нужно было послать статью за кордон, то естественным местом был семинар, куда можно ее принести. У каждого из нас были какие-то свои круги общения, в том числе и среди математиков и ученых, живущих в России. Личные контакты не были порваны полностью.
– Воронель создал очень хорошие отношения с Тель-Авивским университетом. А как вы создали рабочие отношения, скажем, с Технионом?
– Меня еще в 79-м году приняли в Технион.
– Это они сами или благодаря деятельности Воронеля?
– Нет, это не Воронель. Я сам им послал свои документы году в 77-м, по-моему, через Толю Гальперина. Толя тогда был в Технионе докторантом. Я не претендовал на особенно высокий профиль. Я был довольно молодым как математик, я же кончил университет, когда мне было почти тридцать лет.
– Я начал писать книжки, когда мне стукнуло шестьдесят два года. Никогда не поздно.
– Они в 79-м году приняли меня, зачислили. Я был принят в штат Техниона. Я потом задним числом узнал, что они посылали мне огромное количество корреспонденции. Они и звонили мне, но довольно редко.
– Это были чисто научные связи или более того? Я сейчас говорю о Технионе, о Тель-Авивском университете.
– Уже приехав сюда я обнаружил, что из Техниона, в частности, от людей, работавших на математическом факультете, исходило много писем по моему поводу. Они посылались в различные научные ассоциации, в том числе и в советские. Я о них почти ничего не знал. Письмо о назначении мне кто-то принес года через полтора.
– Это было реальное назначение?
– Это было абсолютно реальное назначение в точном соответствии с технионской традицией. Меня назначили на три года «ассошиэйт профессором».
– Это не предполагает зарплату?
– Нет, конечно, пока я не там. Может быть, когда я приеду и начну работать, я буду получать. Это нередкое дело. Человек работает в другой стране, подает заявление в Технион, где оно рассматривается. Его принимают на работу. Он сообщает, что в этом году он не сможет, так как у него есть определенные обязательства, и что он приедет через год. Хорошо, ничего страшного. Его подождут. Это абсолютно нормальная система. В нашем случае она несколько затянулась из-за отказа, ну…
– А Нью-Йоркская академия наук?
– Нью-Йоркская академия наук ─ это уже шаг общественно-политический. Но нужно иметь в виду, что Нью-Йоркская академия наук ─ это не академия в том смысле, в котором мы ее понимаем. Эта – некая научная ассоциация. В нее может вступить каждый человек, и он платит за это ежегодный взнос.
– У нее есть помещение, в котором она размещается?
– Не знаю. Скорее всего, у нее есть какое-то помещение, как например, у Американского математического общества. Это научное общество. Оно издает журнал общего характера. За столетнее существование они издали 700 выпусков. Это некий форум научного общения. Там люди совершенно разных специальностей. Она устраивает конференции общего характера и по конкретным наукам, и по науке как таковой. В том, что они приняли нас, никакого нарушения статуса не произошло. Это был акт общественной поддержки. Президентом Нью-Йоркской Академии в то время был Джоэль Либовиц, совершенно замечательный человек. Он родом из Венгрии, в 44-м году попадает в Освенцим, когда ему 14 лет. Из Освенцима он попадает во Францию, потом, после войны, в Америку. Он становится очень крупным ученым, членом Американской Академии Наук. Это человек, настроенный на то, чтобы творить добро. Одновременно он являлся председателем Комитета озабоченных ученых, который, кстати, существует до сих пор и занимается правами ученых, которых преследуют или арестовывают в любой стране мира. Это не комитет, специально ориентированный на поддержку советских ученых. Но некоторое время это было главным направлением их деятельности. Во Франции была очень сильная группа. Во главе ее стоял Лоран Шварц, тоже выдающийся математик. Но по уставу и общему направлению деятельности они никак не ориентированы только на Россию. Я до сих пор получаю от них бюллетени. До ухода на пенсию я посылал им ежегодный взнос. Джоэль и сейчас очень активен. Он довольно часто приезжает в Израиль.
– Если оставить в стороне научную работу, а представить себе семинар в качестве коллективного борца за права ученых…
– Нет, это невозможно. Научную компоненту от семинара нельзя отрывать.
– Я хочу эту компоненту рассмотреть более подробно. Мы сейчас о сионизме, о том, что тебя, наверное, отталкивает, потому что ты человек неидеологический.
– Речь не идет об отталкивании. Идеология как результат индивидуального выбора представляется мне вещью совершенно необходимой, тем более что она часто переплетается с моралью. Нельзя жить без принципов. Но идеология как обязательный атрибут члена сообщества – это уже нечто другое.
– Как вы строили стратегию борьбы за выезд? Обсуждали ли вы это после семинаров или на личных встречах? Было направление израильское, было направление академии, было направление «Консерн сайентистс».
– Нет. Я думаю, что всё это не совсем так. Я вообще упомянул о «Консерн сайентистс», просто говоря о Джоэле Либовице. О том, что он, будучи крупным ученым, был по натуре человеком очень общественным, что привело его на самый верх в Нью-Йоркской академии наук, он был человеком ориентированным на делание добра. Только в связи с этим я упомянул «Комитет озабоченных ученых». Комитет выпускал бюллетени, посвященные положению ученых-отказников, понимая слово «ученый» в очень широком смысле. Поэтому всякий человек, как-то соприкасавшийся с научной, инженерной, врачебной и прочей деятельностью, попадал в сферу его интересов. Я однажды был в их офисе. Там работала менеджером замечательная женщина по имени Дороти Хирш. У нее был фантастический архив, где было все, связанное с событиями в жизни отказников. Они в это время занимались отказниками очень плотно и делали, конечно, очень много.
– Ученые воспринимали себя как некую отдельную касту, которая, скажем так, не очень смешивалась с обычным отказом. Учитывая чувствительность СССР к мировому научному сообществу, ученые могли использовать свои особые рычаги давления на власть. Какие это были рычаги и в чем состояла стратегия вашей борьбы? Как вы видели западный научный мир, российский научный мир? Или не было такого взгляда?
– Был такой взгляд, конечно. Я даже не стал бы акцентировать такой компоненты, как борьба. Это может быть очень индивидуально. Борьба для меня в существенно большей степени проходила в других коллективах, в которых я был принят. Безусловно, там многие компоненты борьбы присутствовали, потому что из семинара исходило много всякого рода обращений. Если это исходило из семинара, то это больше было направлено к научным сообществам, как за границей, так и в Советском Союзе тоже.
– Политический уровень вы тоже отрабатывали? Обращались к министрам, сенаторам?
– Да, у нас они появлялись тоже. В плане ориентации на политическую деятельность семинар Лернера был гораздо заметнее.
– Пусть не в рамках семинара, но ученые любили приходить на такие встречи.
– Наш семинар был центром притяжения ученых. Все семинары, включая лернеровский, объединяли людей. Особой конкуренции между семинарами не было. Политики появлялись и на нашем семинаре. Потом был семинар биологов и медиков. Там были Игорь Успенский и Леня Гольдфарб
– Как ты видел стратегию борьбы после ареста Браиловского?
– Где-то на рубеже 80-х годов ситуация стала глухой. Эмиграция прекратилась, и главной стратегией стало выживание, сохранение того, что было. Тема эмиграции вновь реально возникла году в 84-м.
– Стали мелькать заявления, что будут отпускать только к прямым родственникам, что можно эту лавочку закрыть, что это не эмиграция и не репатриация, а какой-то еврейский гешефт.
– Не в нашей среде. Это на самом деле было осознанно, что семинар должен сохраниться, и мы любыми силами должны не дать ему разрушиться, поддержать его деятельность. Количество участников семинара уменьшилось за эти годы. Потом появились какие-то новые люди. Ученых, связанных с семинарско-профессиональной деятельностью, почти не арестовывали. Из таких людей были арестованы Кислик (март 1981-го) и Зеличенок (август 1985-го). В принципе, опасения арестов были. Мы же не знали, как они там функционировали, какие у них приоритеты. Но из участников московских научных семинаров – нет. Слепак был активным участником лернеровских семинаров, но он не был активно действующим ученым.
– Лернера к тому времени совсем обложили, он был дома практически закрыт. Его семинар закрылся в апреле 1981 года.
– После Слепака и Иды Нудель, а это был 78-й год, они никого не арестовали из людей, связанных с лернеровским семинаром. В целом в Москве они больше не трогали участников семинара. В Ленинграде они арестовали Алика Зеличенка как преподавателя иврита, а не как руководителя инженерного семинара. На семинары атаки больше не было. Так это и осталось непонятным, был ли арест Виктора связан в какой-то степени с семинаром. Я все-таки думаю, что был.
– Браиловский находился на перекрестке многих вещей. Там и журнал, и международные связи, и международные инициативы, и, естественно, семинар. Ира – личность амбициозная и смелая, типично научного склада. Она была резкой и не боялась идти с ними на конфронтацию. Сильное творческое начало и естественное для ученых стремление к известности делали из ученых эффективных борцов.
─ Мне однажды довелось слушать выступление человека, бывшего много лет председателем Американского хельсинкского комитета. И он говорил, что это чисто российское явление, что в диссидентском движении была очень сильная ученая прослойка. А в Чехословакии, например, значительно сильнее было влияние людей, как-то ассоциированных с культурой.
– Но в культуре предполагается тот же набор качеств.
– Не совсем. Для ученых очень специфично четкое фиксирование всех обстоятельств, причин, следствий, взаимосвязей и т.д. Он, в частности, этим объяснял такую приверженность к требованию обсуждения законности, которое исходило от ученого-физика Чалидзе. Он объяснял, что такая пропорция ученых была только в российском правозащитном движении. Но мы отвлеклись. Стратегия в эти годы – с конца восьмидесятого и по конец восемьдесят четвертого года – была стратегией выживания.
– Власти были готовы помогать в этом отношении. Некоторым отказникам стали предлагать вернуться на работу.
– Это происходило и раньше. Если ты почитаешь воспоминания Инны Рубиной, то увидишь, что Виталию тоже предложили вернуться на работу. Это был 75-й год.
– Да, но у Виталия не было волчьего билета. У меня был волчий билет на протяжении 12 лет. И я в принципе не мог устроиться по специальности. А тут они через кого-то подстроили таким образом, что меня приняли как бы за то, что я решил в театральной технике некую проблему. Это было забавно. Я потом проанализировал и понял, что это было специально устроено.
– Я вполне допускаю, что они хотели рассосать отказ. Они, видимо, тоже точно не знали, как будет в будущем. Я совершенно убежден, что эмиграция была им не нужна. К тому времени они уже сильно людей напугали…
– Они понимали, что отказ – это отрезанный ломоть, но если его все время держать в безнадежном состоянии, то могут быть очень серьезные эксцессы.
– Да, я это допускаю, но они одновременно людей пугать начали. Арестами.
– Стратегия выживания – сохранить семинар, сохранять некоторую активность. Рядом с тобой была Роза, которая стала вдруг очень активной в женском движении.
– Женское движение было очень сильным уже в 78-м году.
– Она была в группе с Юлей Ратнер или с Марой Балашинской?
– Прежде всего, женское движение началось не с Мары. Женское движение началось в 77-м году с Иры Гильденгорн.
– Начало 80-х – это время переходного процесса: с одной стороны, давление на семинары, с другой стороны, они как-то хотят рассосать отказ, занять людей чем-то, с третьей стороны, резко падает выезд и усложняется международная обстановка, с четвертой стороны, отходит ряд очень активных отказников. Кого-то просто закрывают, как Лернера, над ним висело это шпионское дело.
– В интервью Липавского некий задел под Лернера был сделан.
– Он был на самом деле главным обвиняемым: Лернер руководил, Лернер направлял, Лернер дал задание. А потом, когда они Щаранского арестовали, все вздохнули с облегчением: не Лернер, не Азбель. Престин и Абрамович отошли, выработали ресурс, их начали предупреждать.
– Володя с Пашей на самом деле не так уж далеко отошли.
– Я говорю о сравнительной активности. Конечно, Володя продолжал консультировать. Он сам сказал, что ресурс выработан, надо отойти.
– Это связано с настроением некоторой безнадежности, ощущением, что на данное время с отъездом швах и неизвестно, насколько долго. И об отъезде думать сейчас как-то нерационально. Надо как-то выжить, пережить. Я знаю людей, которые пребывали в состоянии полной безнадежности.
– Кто-то впал в пессимизм, кто-то испугался. Над мужчинами был занесен дамоклов меч, и женщины вышли вперед.
– Женщины снова вышли вперед немножко позже. Это был год 84-й – 85-й.
– А как же 1978-й год, разгар процесса Щаранского? Женщины устраивали в День ребенка демонстрации. Тогда же села Ида Нудель.
– Это как раз я очень хорошо помню, потому что в этот день нам отключили телефон, поскольку все звонки шли через него. В этот день планировалась женская демонстрация. На эту женскую демонстрацию были приглашены все, в том числе Маша Слепак и Ида Нудель и т.д. Демонстрация должна была быть и была на самом деле на квартире Розенштейнов. Маша и Ида Нудель не пошли на эту демонстрацию. Маша с Володей выставили плакат у себя на балконе, а Ида Нудель – у себя.
– Алик, я уже в этом разобрался. На самом деле у Иды была своя женская группа, человек шесть. А во второй группе была Ира Гильденгорн, и они говорили, что они организовывают это на нескольких квартирах. Их было человек тридцать. Маша пришла к ним, а Ида с ними не ассоциировалась, она знала об этом, но предпочитала делать сама. Она не любила широкие группы, у нее были надежные поверенные женщины типа Наташи Хасиной. Они провели много демонстраций. Группа Гильденгорн продолжала существовать дальше до 80-х годов
– Демонстрацию в День ребенка в 1978-м я помню хорошо. Женщины с детьми собрались на квартире Розенштейнов и вывесили наружу плакаты с требованием разрешений на выезд. Роза в этой демонстрации участвовала и даже подралась с одним из гебешников, рвавшихся в квартиру, после чего они ее зауважали. Я могу рассказать анекдотическую историю. В одном из ящиков, инструктируя дружинников, среди которых был мой школьный друг, сказали примерно следующее: «В нашем районе проживает семья активных отказников. Он – доктор наук, человек уравновешенный и спокойный, а жена его – женщина резкая и скандальная, ну настоящая еврейская баба». Что же касается демонстрации — это была потрясающая сцена: из дома вышли 30 женщин с детьми, вдоль улицы в два ряда стояла шпалерами милиция и масса «людей в штатском», никого посторонних на улицу не пускали, и женщины с детьми медленно шли между рядами. Поразительная картина. Мы стояли в конце этой улицы, метрах в 300-400 от дома Розенштейнов и встречали их.
– Вокруг тебя была аура человека, который не боится и который естественно себя ведет в сложных ситуациях.
– Я не люблю лезть на рожон.
– Это свойство не только тех, кто не любит лезть на рожон. Это свойственно людям, прошедшим довольно высокую траекторию в социальном смысле.
– Я не могу сказать, что не боялся, но страх не был доминантой. Один раз я себе позволил похулиганить. Это было перед нашей конференцией в 78-м году. Недели за полторы до ее начала меня вызвал ректор, но в его кабинете сидел человек, представившийся капитаном КГБ, который «не рекомендовал» мне участвовать в конференции. После этого и вплоть до самого начала конференции за мной ходил «хвост» – в открытую, как они часто делали. Как-то в метро я вышел из вагона, он за мной, но когда двери вагона закрывались, я вскочил обратно, и он остался снаружи. У него был абсолютно несчастный вид ─ удивительная смесь ярости и испуга. Разумеется, с моей стороны это было чистым мальчишеством, и в дальнейшем я предпочитал не замечать слежки.
– Боря Клотц проявлял активность на семинаре?
– Боря Клотц не был активным посетителем семинаров. Он более широко себя запускал. Руководство семинаром (я имею в виду 81-84 годы) осуществляли в основном Марк Фрейдлин, Яша Альперт и я. Постоянным и деятельным участником семинара был Юра Гольфанд, действительно выдающийся физик-теоретик и замечательный человек. Мы были очень дружны с ним и с Наташей Корец, его женой, в последние годы отказа, пожалуй более, чем с кем-либо в семинаре. Юра был близок к диссидентам, к Сахарову, но не был человеком активного действия. У каждого из нас были свои контакты. У меня было три канала, которые не были каналами в буквальном смысле. Это были люди, с которыми я регулярно общался на протяжении лет и которым более или менее все рассказывалось. Один из них – Алан Ховард, преуспевающий адвокат из Лондона, который основал в Лондоне группу «Совесть», состоящую из интеллигентов. Он был сам необычайно интеллигентным и образованным человеком. Я говорю «был», потому что он, к сожалению, умер много лет назад. Эта группа занималась всеми отказниками. Ученых в этой группе почти не было, в ней состояли люди, связанные с культурой: журналисты, писатели и т.д. Интересно, что один из них, владелец картинной галереи, оказался внедренным в Лондонскую еврейскую общину агентом КГБ. Его арестовали и посадили на 10 лет, уже после нашего отъезда. Как-то в Америке меня пригласили в ЦРУ и спрашивали, знаю ли я такого человека. Такие забавные повороты. Эта группа действовала в контакте с другими еврейскими группами. Алану много лет отказывали в визе, а в 86-м году разрешили. Именно с ним я обсуждал многие вопросы, в том числе и голодовку, которую я объявил, когда Димке (сыну) с его семьей отказали в выезде осенью 86-го.
– Из вас троих, активных участников семинара, у кого было больше всего связей?
– Наверное, у меня. Дело в том, что и Марк Фрейдлин, и Яша Альперт были замкнуты на семинаре. Из нас троих я выходил за пределы семинара.
– Ты далеко выходил. Был у Лернера, с активистами…
– С активистами я, конечно, был, потому что это были симпатичные люди.
– Давай постепенно перейдем к тому, как начинает развиваться машкианская деятельность.
– Давай перейдем к Машке. Я не помню, как мы с тобой пересеклись.
– Я бывал у Лернера на семинарах и тебя там помню. Потом я регулярно бывал на ваших общественных семинарах, видел там Сахарова. Мы как-то пересекались, обсуждали разные вещи. Ты был где-то недалеко от группы Престина.
– Нет, это не так. Володя всегда мне был очень симпатичен, но все время между нами была какая-то дистанция. У меня было такое ощущение, что мы с тобой довольно быстро установили какой-то человеческий контакт. Но начало его я сейчас не могу восстановить.
– С моей стороны это основывалось на искреннем уважении к тому, как ты себя держишь, как естественно общаешься с большим числом людей. В 80-м, 81-м, 82-м годах на меня сильно давили. В 82-м году, в середине, я был вынужден передать мой семинар учителей иврита в другие руки. Было такое ощущение, что они пытаются раздавить всякую организованную деятельность. Надо было каким-то образом сохранить координацию между автономными и полуавтономными направлениями. У нас шел проект городов, который Саша Холмянский постепенно взял в свои руки, но его надо было обеспечивать огромным количеством литературы, учебников и кассет. Нужно было поддерживать аналитическую часть нашей работы, Запад был заинтересован в получении от нас анализа внутренней ситуации, тем более что железный занавес начал снова закрываться, что требовало людей самых разных складов. И, кроме того, оставалось несколько достаточно развитых видов деятельности, не готовых уступать давлению: преподавание иврита, семинары и всё, что от этого кругами расходилось. Учителя иврита были сильно мотивированные люди.
– Это была замечательная компания, я ходил на дибуры когда-то, еще при Фиме Крайтмане. Потом я перестал заниматься. Моя мама умерла в апреле 1974-го года, и я уже не вернулся к изучению иврита.
– Так получилось, что поле ученых и семинарской деятельности выглядело полем твоих интересов, в котором ты был укоренен и полностью информирован. Ученые и семинары – это ведь не только научная деятельность. Надо было помогать ученым-отказникам, обеспечивать их. Нужно было думать о людях, которые попадали в чрезвычайные ситуации ─ лекарства и т.д. Выживание включало в себя много элементов. Поле ученых-отказников, весьма чувствительное и для Запада, и для советских властей, естественным образом смотрелось за тобой. Я даже не могу представить другого человека, который был бы настолько коммуникабелен и открыт для всех, владел языком и занимался научной и организационной деятельностью. Рядом с тобой был Клотц, который занимался еще самиздатовскими делами. Кроме того самиздатовские дела – это еще Фульмахт, ивритские дела – Эдельштейн и вначале Лева Городецкий, я им двоим передал свой семинар. И Мика Членов, паривший в области еврейской культуры и этнографии, естественный сионист и очень образованный и хороший этнограф. Он лучше всех нас представлял себе структуру советской власти в широком смысле этого слова. И был Толя Хазанов – тоже этнограф. Я должен отметить, что все члены Машки так или иначе что-то серьезное потом еще успели сделать. Как ты видел деятельность Машки и как она соотносилась с научным сообществом?
– Ты ─ лидер, ты человек, видящий всю эту систему вокруг себя и воспринимающий ее как единое целое. Для меня же Машка была группой очень симпатичных и интересных мне людей, во многом единомышленников, с которыми было приятно и интересно.
– Но ты там отрабатывал все проблемы ученых-отказников.
– Так меня воспринимали, я так себя не представлял. Я думаю что это было причиной того конфликта, который у нас там возник.
– Напомни, пожалуйста…
– Боря Клотц и Толя Хазанов обвинили меня в том, что я скрыл от Машки какой-то план семинара или конференции, что было для меня дико слышать.
– Ну, это ученые… есть какая-то пиаровская вещь, а им об этом не сказали! Значит, хотят замкнуть все на себя. Но я этого даже не помню.
– Борю Клотца я знал со студенческих времен. Он, как и я, ходил на семинар, который Володя Тихомиров вел в университете. Тихомиров был, кстати, научным руководителем и у Клотца, и у Алеши Левина. С тобой мы были уже некоторое время знакомы. Витя Фульмахт с неординарной, оригинальной нестандартностью мышления был мне необычайно интересен. Он кстати, был димкиным учителем иврита. А с Толей я по сути познакомился только у вас. Я понимал, конечно, что каждый из нас занимает некоторое место в группе, к которой он принадлежит. И что это не случайно, это нас объединяет. Разумеется, пониманием происходящего, которое приобреталось в результате наших встреч, я как-то делился с ребятами на семинаре, возможно, оно как-то влияло на деятельность семинара. Но при всем при том, это было для меня вторичным фактором. А прежде всего вы были для меня личностями, с которыми мне интересно, приятно, полезно. И сейчас, спустя годы, мне чаще вспоминаются эпизоды, выходящие за пределы наших серьезных дискуссий. Ты помнишь шутовской суд над Бегуном в сауне на Красной Пресне. Это уже был 87-й год, и Йосеф уже вышел на свободу.
– Ты же был одним из крупнейших специалистов по сауне, рассказывал нам какие-то потрясающие вещи. И ты был одним из самых спортивных, бегал на длинные дистанции.
– У меня даже сохранилась фотография, где мы в снегу стоим голые втроем – Владик Рябой, Толя Хазанов и я.
– На самом деле чемпионом по здоровью, по тому, как надо выживать в самых сложных обстоятельствах, является Бегун, который мог одновременно заниматься йогой, бегом, горными лыжами и который всегда был готов куда угодно поехать отдохнуть. Бегун абсолютно бесстрашный человек.
– Да, Бегун – человек лишенный страха, и это поражало.
– При этом он говорит, что у него были моменты, когда он боялся, но внешне этого не было видно на 100%. Он выходил из тюрьмы и на следующий день шел на демонстрацию. Я не могу забыть, когда мы были на приеме у судьи, чтобы подать судебный иск по обвинению телевидения в клевете по нашему адресу. Я просто боялся с ним рядом стоять. Это еще эффект Москвы, конечно, там так сильно не били. Если бы он прошел те колеса, которые проходили люди в провинции, я думаю, он иначе к этому относился. Хотя – это и характер тоже. Что ты можешь еще рассказать про Машку?
– Это был такой клуб, в котором мне было необычайно хорошо. Это была очень насыщенная интеллектуальная компания. Там всякий разговор был разговором, приходилось думать, и думать не в смысле, что сказать, а обдумывать то, о чем мы говорим. Там были люди с хорошим чувством юмора, одного склада характера, умеющие этим юмором хорошо пользоваться даже в самом серьезном состоянии. При этом всем для меня человеческая компонента Машки оставалась главной.
– Причем было понятно, что если этот клуб накроют, будет плохо. То есть там был элемент надежности.
– Да, там был абсолютный элемент надежности и доверия, за исключением этой дурацкой истории.
– Потом я помню, что там мы делали несколько аналитических отчетов, в которых каждый брал на себя какую-то часть. Потом мы создали некоторый круг, по которому мы пропускали важных гостей из-за границы, приезжавших в Союз. В рамках Машки мы с иностранцами никогда не встречались, но мы создали круг, в котором каждый из нас отдельно встречался, в особенности когда кто-то очень важный приезжал и нужно было показать ему отказную жизнь и накачать его информацией перед встречей с Андроповым или с кем-нибудь еще. После того, как во главе государства встал Горби, его посещали много иностранцев. А у нас был свой круг человек на 10-12. В нем каждый говорил свое, но всегда была центральная составляющая, которая вырабатывалась на Машке, то есть позиции по целому ряду вопросов координировались.
– В смысле понимания всего происходящего и возможности обсуждать Машка была совершенно замечательным институтом. Мы смогли выработать в каком-то смысле уникальную систему общения, которая соединяла абсолютную неформальность и добровольность с полным единогласием и некоторой организационной структурой и соответствующим ей пониманием ответственности. Помнишь, как мы выбирали президента на одном из первых заседаний? Ты ж у нас был президентом все-таки. Это всегда оставалось такой полушуткой, но доля серьезности в нашем отношении к ней всегда присутствовала.
– Я этого не помню. Через меня шла основная финансовая помощь. Самая надежная информация с Запада была у меня, прежде всего из Натива. И то, что связано с деятельностью истеблишмента, поскольку я постоянно встречался с ними. Но потом они пошли дальше, я всех подключил к этому делу. Интеллектуально мы все были очень близко, но я еще был самый старый отказник.
– Мика образовывал культурный фон. У него был необычайно широкий общекультурный кругозор, и его обзоры были весьма насыщенными. Плюс, конечно, знание языков.
– Он знал много языков. Он великолепно знал иврит, он великолепно знал английский, немецкий. Он знал индонезийский. Он был гуманитарий до мозга костей, воспитанный отцом, который вложил в него очень много. Ему повезло в этом смысле в наследственности. Его мама была доктором наук. Папа был писателем.
– Да, конечно.
– Понимаешь, нам всем в большинстве вещей, которые касались гуманитарных областей, приходилось изобретать велосипед. Он уровень велосипеда давным-давно прошел. Он профессионально занимался этими вещами много лет и занимался в коллективах, где собирались лучшие представители этих областей. Поэтому его восприятие окружающего отличалось от нашего. Там, где мы должны были долго и много думать, он давал готовые вещи, которые можно было пускать в обращение. Но с этим было связано и его ограничение, именно как гуманитария, потому что в Советском Союзе гуманитарии вынуждены были жить профессионально в извращенной среде.
– Ну, в этом я с тобой не соглашусь. Неформальная среда, самиздат, существовашие в СССР, создавали совершенно уникальную систему общения, в которой было немало гуманитариев высочайшего класса. Например, Виталий Рубин. Профессиональная стратификация здесь гораздо сильнее. У меня, во всяком случае, почти все контакты с гуманитариями — с тех пор.
– Души и мировоззрения формируются в определенной атмосфере и взрастают на определенной почве. Ты помнишь этот английский роман, где в высшем обществе для того, чтобы причинить наивысшие страдания кому-то, его ребенка помещали в сосуд, и он, в конце концов, принимал форму этого сосуда. Мы могли читать то, что нам позволяли читать в соответствии с единственно верной линией и идеологией. Самиздат не мог заменить подлинно свободного рынка идей и информации.
– Ну, это не так. Мы могли читать и многое из того, чего нам не позволяли.
– Ты мог читать все, что выходило на Западе? Нет.
– Очень многое. А они сами на Западе еще меньше читали.
– Они имели свободу выбора, а мы не имели такой свободы. Мы читали в Самиздате. Мы выросли в среде, где доминировала одна идеология, все остальное было более или менее запрещено. И углубленное изучение этого было практически невозможно.
─ На Машке обсуждались все проблемы, которые возникали на местах, обсуждалось положение с поддержкой Запада. Это было мрачное время в 83-84-х годах.
– Я очень хорошо помню один момент. По-моему, это был 85-й год. Мы однозначно и четко зафиксировали то, что ситуация меняется и вопрос о выезде сейчас становится во главу угла.
– В 85-м году Горбачев пришел к власти. А до этого по России стали ходить разные анекдоты о кремлевских старцах. Это было анекдотическое время стагнации и геронтократии во власти.
– Тем не менее, у меня это обстоятельство осталось в памяти как некое нетривиальное обсуждение.
– Было ясно, что проходит время полуживых, выживающих из ума людей, которые держались за кресла, и в скобках можно добавить, что благодаря этому как-то сохраняли ту страну в целости. Пришел молодой, энергичный, с живым лицом, с живым словом. Человек, который решил, что пора что-то менять. Он начал говорить в другом стиле, в стиле детанта, что-то о налаживании контактов. Это было время, когда появлялись новые надежды. Но у тебя ко всему был индивидуальный подход.
– Есть некий позитивный смысл в том, что ты сказал, но на самом деле впечатление от этой фразы может остаться неправильным. Лично для меня. Я всегда рассматривал идеологию как нечто сугубо индивидуальное, принадлежащее человеку. А идеология как институт, который навязывает большому количеству людей либо воззрения, либо какие-то специальные действия, поведенческие и т.д., для меня была неприемлема.
– Это как разница между религией и верой. Религия – это институт, а вера – это мировоззрение.
– В этом смысле – да. В данном случае идеология очень смыкается с религией. Не только советская идеология. На самом деле всякая идеология, как только она становится государственным или общественным институтом.
– Когда есть свободный рынок идей, мировоззрений, когда есть свобода совести, то каждый может верить в то, что хочет, и за это никто не будет его наказывать. В Советском Союзе мы были обязаны следовать определенной идеологии, не отклоняясь ни влево, ни вправо от единственно верной генеральной линии партии. В этом смысле это был религиозный институт со свойственными ему ограничениями.
– Верно. Я с этим согласен. Но если так же подойти к сионизму и к тому, как это воспринималось в наши отказные годы в Москве, то, по-видимому, наша психология, сформировавшаяся в России, тоже играла свою роль. Были чисто идеологические табу. Например, признаться, что ты едешь в Штаты, а не в Израиль, было трудно для очень многих. Но это отдельный вопрос, о нэшире мы еще поговорим. Вот здесь я хотел бы делать четкие различия между индивидуальной и корпоративной психологией.
– Ты себя представляешь неким антисоциальным элементом. Как бы твой индивидуализм для тебя превыше всего. Такой западный образ мышления.
– В известном смысле так, но в основном далеко не так. Я привык относиться к коллективам, в которых функционирую, с уважением и всегда старался соразмерять свои действия с ними. Это вопрос воспитания, а не идеологии. Для меня сам акт подачи документов в Израиль был, если угодно, и обязательством. Я принимал некоторое решение, я его объявлял. Мое моральное обязательство состоит в том, чтобы следовать этому моему заявлению, что я в этом деле никого не обманывал и ничего иного не имею в виду. Лично для меня здесь никакой проблемы не было. Но я прекрасно понимал, что для очень многих людей жизнь в России была совершенно невыносима. И это была единственная отдушина, за которую они могли уцепиться, чтобы вырваться оттуда. Осуждать их за это, за то, что они подавали документы, заранее зная, что поедут в Америку, а не в Израиль, я не мог.
– А никто их и не осуждал за то, что они хотели уехать. Их осуждали за то, что они занимали место олим в этом потоке. Борьба была за алию. Они решали свои личные проблемы, и ради Бога, пусть бы решали сами. В то время, когда была квота и когда слишком большой поток ношрим мог угрожать самому существованию алии, это было неморально, это было неприемлемо для многих борцов за алию. Но для кого-то было приемлемо.
– Я не могу с тобой согласиться на все 100%. Это действительно непростой вопрос, в котором замешаны и человеческие, и идеологические и политические компоненты.
– Я бы сказал так: в свободном мире, где ты идешь и покупаешь билет, куда хочешь, нет проблемы нэширы в том смысле, в котором она существовала у нас. Ты можешь морально не приветствовать или приветствовать этот шаг, и всё. Человек свободен. Это его личное дело. Он при этом может быть сионистом и помогать Израилю. Мы были изолированы в России. Мы с большой кровью пробили алию и, естественно, считали, что нужно поддерживать тех, кто ехал в Израиль.
– Этот тезис тоже в достаточной степени спорный. Потому что, если говорить по большому счету, то, наверное, это было так. Но если говорить о конкретной и практической политике Израиля в отношении алии, то ситуация отнюдь не была столь однозначной. Мы в некотором смысле гораздо больше нуждались в Израиле тогда, подразумевая под «мы» всю эту огромную компанию отказников, включая и будущих ношрим, и будущих израильтян. Это было далеко не бесспорно для многих. Мы немножко ушли в сторону от разговора.
– Мы говорим о нэшире и алие. Ты считаешь, что имело право ни жизнь и то, и другое без всяких ограничений.
– Нет, с ограничениями.
– С какими ограничениями?
– Я хочу тебе здесь объяснить, что для меня личная позиция человека, который подает документы в Израиль в той ситуации, в которой мы были, и едет в Америку, была не то чтобы неприемлемой, была не слишком приятной, я ее персонально не любил. Но выставлять это обстоятельство в качестве такого абсолютного корпоративного неприятия людей, которые это дело делали, у меня не получалось, я этого не мог.
– Ну, такого не было, чтобы их корпоративно не принимали. Они тоже участвовали в борьбе, в меньшей степени, правда. Они тоже были евреями, которые страдали. Но там был такой элемент: «Ребята, вы хотите в Штаты? Пробивайте себе дорогу в Штаты. Зачем вы занимаете место других людей, едущих в Израиль, и ставите под угрозу алию?»
– Это несколько циничная позиция, слишком далекая от практической жизни того времени.
– Они могли проехать через Израиль.
– Я боюсь, что это приводило бы к еще худшим конфликтам. Отъезд из Израиля воспринимался ничуть не лучше, чем нэшира, ─ вспомни историю с Зуншайнами. Они, кстати, не скрывали своих намерений и до отъезда. Кроме того, уезжая из Израиля в Штаты, многие считали необходимым для самооправдания выплескивать наружу свои отрицательные эмоции по отношению к стране.
– А Зуншайн ехал через Израиль?
– Конечно. Его уговорили, чтобы он приехал на какое-то время, посмотрел, может быть, останется.
– У Тани, его жены, был хороший английский.
– У них была страшная история в Израиле?
– У них, как и у многих, не было никакой страшной истории. Просто они хотели ехать в Штаты. Но как я сказал, многие скорые «отъезжанты» с охотой или без охоты считали нужным рассказывать всякие малоинтересные вещи про Израиль. Вот одна история – без фамилий. Человек, о котором я хочу рассказать довольно быстро уехал, но в некоторых кругах отказа он был известен. Я его очень хорошо знал, он был старше меня, прошел войну. Очень умный человек и неплохой ученый. Но он был скорее организатором, а не созидателем. В Союзе эта вещь была распространенной, когда люди такого склада занимали высокие позиции. А в Израиле и на Западе ситуация другая. Если ты пришел в науку, то прежде, чем пробиться на организаторский уровень, ты должен продемонстрировать свою силу как ученый. Ты иначе не попадешь в эту систему. Ты, видимо, точно не представляешь себе, как работает академическая система в Израиле в смысле приема на работу и т.д. Он приехал сюда и как новый оле получил на полгода место в Технионе, я уже не помню, получил ли он стипендию Шапиро или что-то другое, это было в 73-м году. Он получил временную позицию. Так большинство получало. Чтобы получить позицию, которая потом будет постоянной, нужно было в любой ситуации практически каждому пройти через всю эту многоступенчатую процедуру, которая очень не проста.
– Это не говорит о том, что те, кто работает здесь, намного сильнее тех, кто приехал. Просто система такая.
– Те, кто проходили эту систему и получали постоянную работу, это были люди, вполне сопоставимые по уровню с теми, кто работает здесь – и по складу, и по уровню.
– Ты хочешь сказать, что наука здесь и в области математики также очень высокая, и люди, лучшие ученые, приехавшие из Советского Союза, ничем особым сверх их уровня не выделялись.
– Нет, ну почему? Приехал Пятецкий-Шапиро, который был выдающимся ученым. В Израиле таких раз-два и обчелся. Его приняли, но при этом он прошел всю эту процедуру.
– Как проходили процедуру без знания языков?
– Давай я тебе объясню, как это все устроено. Языки тут не при чем. Я проходил всю эту процедуру, будучи в России. Процедура приема на штатную должность, в Технионе во всяком случае, выглядит так: ты подаешь заявление на факультет, присылаешь свое си-ви (профессиональную биографию – на иврите «корот хаим»), содержащую сведения об образовании, местах работы и должностях, полный список публикаций и конференций, на которые ты был приглашен или в которых просто участвовал и т.д. После этого собирается «ваада мехина» (подготовительный совет) на факультете. В Технионе это собрание всех полных профессоров. Этот совет решает, начинать процедуру приема или нет. Если решение ─ начать, то примерно семи-восьми специалистам в близких к аппликанту областях рассылаются просьбы оценить важность и оригинальность его/ее работ, если возможно, лекторские качества и т.д. Это, как правило, первоклассные специалисты из разных стран.
– И что – все эти известные люди будут по каждому поводу сидеть дома и оценивать эти работы?
– Мы это делаем без конца. Это та цена, которую мы платим за то, чтобы быть членами академической системы, потому что ты тоже был в таком положении, тоже все это проходил, и ты должен это понимать. Мне приходится в год писать 10-12 рецензий на статьи, представленные для опубликования в разных журналах, и 3-4 письма такого типа, о котором я только что говорил. Ты всегда можешь, по той или иной причине, отклонить просьбу о написании такого оценочного письма или объяснить, что можешь это сделать не раньше определенного времени. Этика требует, впрочем, чтобы это было сделано вскоре после получения просьбы – чтобы не затягивать процедуру. Обычно предполагается, что 3-4 месяцев достаточно. Затем приходят семь-восемь писем на факультет и рассматриваются.
– Они бесплатно это делают?
– Абсолютно бесплатно. Письма бывают разные. Факультет решает на основании этих писем продолжать процедуру или нет. Если факультет решает продолжать процедуру, то тот, кто представлял этого кандидата, подготавливает это дело, и оно отправляется на уровень университета или Техниона. Там есть некоторое количество комиссий. Первая проверяет в основном формальные параметры – соответствует ли поданное заявление определенным нормам и т.д. Затем дело, передается в «ваада микцоит» – профессиональный комитет. По каждому человеку создается специальная «ваада микцоит» из специалистов в этой области. На вааде обычно присутствуют один или два человека не из этого университета. В этом случае приглашение человека оплачивается. Эта ваада собирается, все материалы и письма читаются очень внимательно. «Ваада микцоит» обсуждает профессиональный аспект дела и принимает решение, рекомендовать его или нет. Но это еще не последняя инстанция. Следующая инстанция – «ваадат кева», она принимает окончательное решение относительно приема данного человека, и там уже обсуждаются абсолютно все аспекты: профессиональный, человеческий и т.д. Такая же точно процедура у человека, который проверяется на более высокую должность.
– Сколько у тебя было работ по математике?
– У меня было не очень много работ, но у меня к тому времени уже были кое-какие публикации в западных журналах, которые привлекли внимание. Но авторы рекомендательных писем не обязаны рассматривать все публикации. Ты должен решить для себя. Когда ты получаешь это письмо, у тебя есть си-ви, ты смотришь и отсеиваешь публикации, которые менее существенны для оценки этого человека. Ты выбираешь пять-шесть публикаций и начинаешь их смотреть, создавая на этом основании впечатление, что этот человек из себя представляет. Если у тебя возникают какие-то сомнения, то ты можешь прочитать больше публикаций, можешь обратиться за советом. То есть ты волен решать. Этика требует, чтобы ты написал аргументированное письмо с ясно выраженным отношением. Это сложная процедура. Я могу тебе рассказать очень интересную историю.
– Что такое полный профессор?
– Это достаточно высокая академическая должность. В Израиле есть четыре профессиональных градации: марце, марце бахир, есть профессор-хавер (это типа доцента) и есть профессор. Профессор, кроме того, что он читает лекции, принимает участие в принятии ряда решений. В комиссиях, о которых я рассказывал, могут быть только полные профессора.
– А ты был членом «ваадат кева»?
– Нет, я никогда не был членом «ваадат кева». Комиссия не велика, человек 10, семь-восемь выбранных (на три года) на собрании Сената университета, и пара членов по должности (президент университета, например). Что касается меня, то, как я тебе говорил, мое возвращение к профессиональной деятельности было нелегким. Я бы даже сказал, что это был мучительный процесс, он отнял пять-шесть лет как минимум. Я поэтому всячески уклонялся от административных постов.
– Давай вернемся к идеологии. Мы остановились на том месте, что ношрим пострадали от того, что они ехали через Израиль.
– Хорошо, вернемся к моему рассказу. Я не говорил, что ношрим страдали, я имел в виду, что нэшира через Израиль приносила Израилю ничуть не меньше неприятностей. Когда я приехал, я понял, что у того, о котором я рассказывал, шансов получить позицию в академической системе в Израиле, не было. Он был неплохой ученый, но главная его сила была в том, что он хороший руководитель. И он на этом процветал в России, у него была прекрасная лаборатория, он умел подбирать людей. Его не взяли в Технион. Он уехал в Германию, получил позицию в одном из университетов и написал мне оттуда письмо, в котором поливал Израиль со страшной силой. Мне было очень тяжело его читать. Я еще не был отказником в то время. Я написал ему ответ, что в той ситуации, в которой мы находимся, он не имеет права писать такие письма. Он мне не ответил, и с той поры наше общение прервалось. Нэшира через Израиль была бы гораздо хуже, чем нэшира прямая. Во всяком случае, среди тех, кто поехал туда прямо, есть масса людей, которые активно участвуют в поддержке Израиля.
Вот я по этому поводу записал такое высказывание Марка Блоха, замечательного французского историка, погибшего в концлагере во время войны. Он написал, что он еврей, но не видит в этом причины ни для гордыни, ни для стыда. Он отстаивает свое происхождение лишь перед лицом антисемита.
– А для меня, например, это было источником стыда некоторое время. Потом я пытался найти в этом некоторую гордость и комфорт.
– Для меня тоже. В детстве, в мальчишках еще, я, может, это застал больше, чем ты, когда в 49—50 годах слово «еврей» было в Москве абсолютно бранным словом. Я помню, что мы жили на улице Горького, и чтобы выйти на улицу, надо было пройти через весь двор, и у меня осталось такое воспоминание, что я шел, как сквозь строй. Тем более, когда отца выгнали с работы. Это был такой военный дом. Когда отца выгнали из армии, все об этом знали. Мы там были изгоями. Это было жуткое дело. Но потом это как-то исчезло. Я расскажу еще одну историю. Я учился в замечательной школе, у нас было не так много евреев, но атмосфера в школе, создававшаяся преподавателями, была совершенно исключающая все возможности такого сорта. В 52-м году я должен был вступать в комсомол, притом что отец был исключен из партии и выгнан из армии. Он еще не был арестован и, слава Богу, его не успели арестовать, но приказ военного прокурора о том, что нам нужно быть выселенными из этого дома, мы через несколько месяцев уже получим. Итак, мне надо вступать в комсомол, и моя мама идет к директору школы. Директор школы Юрий Николаевич Брюханов, сын репрессированного в 30-е годы крупного финансового деятеля, прошедший всю войну. Мама пошла к нему, объяснила ситуацию и попросила совета. Он дал поразительный ответ. Он сказал, что они меня хорошо знают и не имеют ко мне никаких претензий. И он не видит никаких препятствий для моего вступления в комсомол. Я об этом разговоре узнал много позже. Вот такая атмосфера была в нашей школе.
– Давай вернемся в 80-е годы.
– Эти блоховсие слова более или менее соответствуют тому, что я действительно ощущал. Мое еврейство – это был факт моей жизни, который накладывал на меня некие ограничения и, наоборот, каким-то образом управлял моей жизнью, но не более того. Он не давал никаких преимуществ и не давал повода этого стыдиться. Но до сих пор, когда я встречаюсь с чем-то антисемитским или антиизраильским, я часто теряю самообладание.
– Какие еще идеологические мотивы тебя задевали? Было ведь много разных мотивов.
– У нас было много мотивов. Мы начали задумываться относительно отъезда в Израиль где-то в конце 60-х. У всех были какие-то проблемы. Скажем у меня. Я должен был быть принят на работу в университет в конце 60-х годов или в начале 70-х. Уже Петровский согласился, что было нетривиально в то время. Потом Петровский заболел, и дело закрыли. Университет был для меня закрыт. Это было довольно сильное переживание для меня. Я тогда с трудом с этим смирился. Там были и позитивные моменты и, конечно, эта тема была во всех разговорах, во всех дискуссиях. После Шестидневной войны это обстоятельство «Не бей евреев, а бей, как евреи»
– Давай перейдем к теме диминого отъезда, а потом уже к вашему отъезду.
– Это интересная история и во многом удивительная. Димка женился в 85-м году, у него родилась дочка, но об университете и речи не было. Димка окончил 91-ю школу. Это была одна из московских математических школ, и оттуда вышло немало хороших математиков. В университет было тогда поступать бессмысленно. За год до этого была великолепно проведенная операция Юли Ратнер, когда Миша Бялый и Леня Полтерович были приняты в университет.
– Но они были приняты до вторжения в Афганистан.
– Да. Было совершенно ясно, что во второй раз они на такой трюк не попадутся, и шанса у Димки просто не было. Он поступил в Горный институт на какой-то факультет. В это время в университете был полусамодеятельно организован Народный университет. Димка туда ходил в течение года, и это ему колоссально помогло потом. Он закончил этот Горный институт, получил распределение на какую-то сторублевую зарплату в Москве. Они поженились, у них родилась дочка. На сто рублей прожить было невозможно. К тому же они решили, что будут жить отдельно. Они сняли за сто рублей где-то комнату, и Димка по ночам работал грузчиком в Московском порту. Стало ясно, что ждать у моря погоды невозможно. И хотя ситуация начала ощутимым образом меняться, но все равно перспективы были непонятны. Они подали в 86-м году, и ответ, который они получили, был совершенно издевательским. В ответе было сказано, что им отказано по той причине, что у них в Израиле нет родственников. После этого мы начали размышлять, что делать, и я решил, что буду готовиться к голодовке, что через 2-3 месяца об этом объявлю и буду стараться ее держать до упора.
– А причиной твоего отказа была секретность?
– Да, я работал в ящике в НИИ-5 до 72-го года. Там был Толя Шварцман, Оскар Менделеев, Гриша Розенштейн. В октябре 86-го года приехал Алан Хауворд. Мы с ним познакомились в 76-м году и подружились, разговаривали раз в месяц все годы за исключением одного, когда был отключен телефон. Мы уже хорошо друг друга знали и понимали. Он приехал, и мы с ним сидели несколько часов за обсуждением. Помимо того, что он юрист, он хорошо понимал, какие последствия может вызвать тот или иной шаг. Что нужно делать и что не нужно делать. Разработали план, как эта голодовка будет готовиться, с кем он должен связаться и по еврейской части, и по научной части. И действительно восьмого января 87-го года я эту голодовку объявил. Сначала я написал письмо Горбачеву. Удивительным образом я себя хорошо чувствовал. Первые дни было тяжело, а потом<,> вторая неделя была проще. Телефон звонил, не переставая. Потом я узнал, что было невероятное давление на Академию наук со стороны разных западных научных организаций. На 17-й день голодовки позвонили из ОВИРа и сказали, что мне отказано в выезде. В первый раз в жизни я выматерился по телефону. Я сказал, что не просил разрешения. Было очевидно, что это психологическое давление, призванное подорвать дух. Брат Алана Хауворда Кен, довольно известный лондонский кинодокументалист, приехал в Москву снять фильм. Он сидит у меня и снимает, и в это время раздался телефонный звонок от Г.К. Скрябина, секретаря Академии наук СССР. Он сказал, что хочет со мной поговорить. Я сказал, что неважно себя чувствую, на что он очень резко возразил, что я должен понять, что он человек очень занятый и ему нужно со мной встретиться. Тогда я понял, что дело серьезное, что, по-видимому, речь идет о димкином разрешении. Эта часть была Кеном снята вживую. Я сел и приехал к Скрябину. На голодовке я потерял 12 килограмм и выглядел, как Аполлон. Меня сразу к нему провели. Понимаешь, я – кандидат наук, какой-то там отказник, а секретарь Академии наук – это второе лицо в Академии наук. Если он звонит, значит, его допекло. Он мне сказал, что моего сына решено отпустить.
– А зачем тебя надо было вызывать к нему?
– Не знаю. Думаю, что это было громкое дело. Я так себе это и представлял. И он тут же мне сказал, что теперь я могу прекратить голодовку. Я сказал, что подумаю. После этого он произнес монолог: «Молодой человек, поверьте мне, я много пожил. Вот вы приедете и через два-три месяца начнете проситься назад или захотите вернуться назад». Я ему сказал, что если я захочу вернуться назад, то я об этом ему сообщу. И мы расстались. Когда я пришел домой, подумал над этим и позвонил Скрябину и сказал, что я прекращаю голодовку. Потом я позвонил в ОВИР и рассказал, что произошло в Академии наук. В ОВИРе сказали, что им по этому поводу ничего не известно.
– Им еще не сообщили.
– Меня это дело немножко напрягло и, поразмышляв, я решил, что это довольно серьезно. Я позвонил некоторому количеству людей и рассказал, что у меня был такой разговор со Скрябиным, плюс еще все это было заснято на пленку. Действительно, потом всё происходило мгновенно. Димка через полторы недели получил разрешение, и его отъезд проходил фантастически гладко. Это, конечно, давление научных кругов. Мне это показали. Начало периода некого потепления тоже сыграло роль. Не исключено, что произойди это пятью годами раньше, такого исхода не было бы.
– Конечно, это начало 87-го года. Начало перестройки.
– Перестройка не сразу началась. Даже когда мы уезжали, мы стояли в очереди за водкой в два часа дня. Перестройка по большому счету началась несколько позже. Но ситуация уже менялась.
– Советский Союз был чувствителен к такому роду вещей.
– Но не настолько чувствителен, как страна, в которой мы сейчас живем. Мы пугаемся, когда некоторые организации что-то такое скажут.
– Все негативное, что о нас говорят, у нас сразу все перепечатывают.
– Для меня это, пожалуй, единственная иллюстрация избранности еврейского народа.
– Теперь давай перейдем к твоему отъезду. Что там было интересного и иллюстративного?
– Там было много чего интересного. Ты помнишь эту встречу в австралийском посольстве, когда там был премьер-министр Хоук? Осталась фотография, где он стоит с таким видом, что как бы сожалеет о том, что ничего не получилось. Все-таки кое-что получилось, хотя немного. Мы говорим о декабре 87-го года. Потому что по итогам его визита двум семьям было выдано разрешение – Абрамовичам и нам. Я об этом узнал из ночного звонка Изи Либлера, который сказал, что мне разрешено выехать. Это произошло через неделю после отъезда премьер-министра Австралии. Изи ничего не стал объяснять и сказал, что получил такую информацию. Потом повторился этот круг: я на следующий день позвонил в ОВИР, мне сказали, что им ничего не известно. Потом они где-то к концу декабря все-таки разрешение прислали.
– Тогда начались разрешения другим отказникам. То есть вы и Абрамовичи были просто первыми.
– Что значит первыми? Толя Хазанов уже уехал, Марк Фрейдлин уехал. Такие эпизодические разрешения, не связанные ни с какими режимами, уже начались.
– В 87-м году начались выпуски из лагерей.
– Выпуск из лагерей начался раньше, чем отъезд. Мудрый Паша решил все делать по-большому, аккуратно. А у нас уже терпения не было. Димка был уже там, мы очень скучали.
– Мне рассказывали, что при отъезде у тебя была странная история.
– Я расскажу тебе о ней, но без упоминания фамилии. Когда мы приехали в Вену, меня там встречал Алан. Мой гнев еще не остыл, и у меня были кое-какие документы. Алан посоветовал мне плюнуть на это дело: «Тебя ждет трудное и тяжелое вживание в новую жизнь, и не нужно вешать на шею эту обузу».
– Когда-то вы были в дружеских отношениях с героем этой истории?
– Мы не были в особо близких отношениях. Но когда он попросил меня помочь и взять с собой несколько его картин, я, естественно, согласился. Бог с ним, я очень благодарен Алану за его совет. Когда был первый съезд будущего Форума в 88-м году, руки ему я не подал, когда он полез… Я больше не хочу об этом говорить. Как я понимаю, ГБ за Димку на меня страшно злилась. Для такого рода подозрения были некоторые основания. Было несколько непонятных телефонных звонков.
– Дима активно себя вел? Он боролся за вас?
– Да, конечно. У Димки был приличный английский. Кроме того, некоторые коллеги, мои друзья организовали ему приглашение на большую математическую конференцию в Перпиньяне (Франция) в июне 87-го года во Франции. А потом Алан пригласил Димку в Лондон.
– Дима призывал бойкотировать советскую науку, ученых?
– Нет. Мы этот вопрос обсуждали еще в отказе довольно тщательно. На Западе такие голоса, призывающие к бойкоту советских ученых, все время возникали, а мы были против этого. По двум причинам. Одна – довольно шкурная: мы понимали, что это означает прекращение поездок западных ученых в Советский Союз, а это для нас очень существенно. А вторая причина была абсолютно человеческая: такой бойкот принесет огромный вред массе людей, которые в этом никак не виноваты. Идея о том, что наши, пусть даже бывшие, друзья должны платить за то, что творит государство, не воспринималась. Димка там по этому поводу высказывался, что нормальные советские люди далеко не всегда с большим одобрением относятся к тому, что делает их власть. Алан пригласил Димку в Англию, и там произошел забавный эпизод. Он должен был дать интервью Би-Би-Си, оно было назначено в отеле «Ритц» в Лондоне. А у Димки кроме джинсов никаких штанов с собой не было. И Алан ему говорил, что он не может идти в отель «Ритц» в грязных джинсах, что ему необходимо купить приличные штаны и надеть их. Но Димка человек упрямый, он ни на какие компромиссы в те годы, во всяком случае, не шел. Короче, он пришел в отель «Ритц», и его-таки не пустили туда. И бедные ребята из Би-Би-Си вынуждены были выйти и искать место, где взять это интервью. И ближайшее место, которое они нашли, было кафе Аэрофлота! Теперь про наш отъезд. Я сейчас, реконструируя события, склонен думать, что Академия наук дала Димке разрешение через голову ГБ. И у нас начались всякие замечательные события. Мы купили билет. Ты помнишь, что там была система дальнего багажа и ближнего багажа. Мы ждали свой длинный багаж. На следующий день раздается звонок из кампании «Аэрофлот», что они должны перед нами извиниться, что по не зависящим от них причинам, они вынуждены заменить самолет, который полетит в Вену, и поэтому они не смогут отправить наш длинный багаж.
– Вы взяли не все вещи?
– У нас был чемодан фотографий. Большую часть книг мы взять не смогли. Часть мы отвезли в букинистический, несколько сот книг мы раздарили. Конечно, мы всё взять не могли. Мы не сдали длинный самолетный багаж. Потом мы повезли свои вещи в таможню, и там началась история. Они обнаружили в одной из наших картин, между картиной и картоном, который был сзади, вложенный некий рисунок. Они сочли это за контрабанду. А картина-то вообще была не наша. Один мой знакомый попросил меня ее вывезти. Нас мучили с этой картиной целую неделю. Потом, когда эта история уже закончилась, они издевательски оценили этот рисунок в 10 рублей. И когда я увидел эти 10 рублей, то понял всю гнусносность этой инсценировки. Но на этом дело не кончилось. Там было много интересных необычайных моментов. Вдруг мы получаем открытку из Лос-Анджелеса от художника Раппопорта, реально существовавшего. Это русский художник. Я его знать не знал. Он писал, что ему стало известно, что я заинтересован в его картинах, и он был бы рад со мной на эту тему пообщаться. В общем, какая-то бессмыслица. И вдруг там появляется название одной из картин, которая очень сильно походила на название одной из картин, которые были у нас в багаже. Но это было не всё. Мы приезжаем в аэропорт уже улетать. У нас с собой есть какое-то количество чемоданов. Мы стоим у турникетов. Перед нами одна семья. Проходит полчаса, проходит час, а их все досматривают. Мы, естественно, начинаем нервничать, начинаем спрашивать. Нам отвечают вежливо, что они делают свое дело. За полчаса до отлета самолета они начали нас досматривать. Досматривали следующим образом. У нас были два чемоданчика. Мы их открыли. Нам сказали, что до отлета осталось полчаса, и у них нет времени нас досматривать, если мы хотим, мы можем лететь, а нет – мы можем вылететь следующим рейсом. Мы особенно не размышляли над этим предложением. Вот такой был отлет. Мы получили удовольствие по полной программе.
– Что вы решили?
– Мы пошли, конечно. Там стояли наши провожающие. Мы отдали им наши чемоданы. И пошли.
─ Ты приехал прямо на работу?
─ Да, и как я понял позже, этого нельзя было делать. Я пришел на работу без ульпана, без всего. Я, конечно, истосковался по работе, чего там, и думал, что сразу начну работать, а оказалось, что это невероятно трудно ─ войти снова в исследовательскую работу после многих лет перерыва, да и готовить курсы тяжело. Моя собственная работа двигалась медленно, и это мучительно раздражало. Потребовалось минимум 4-5 лет, чтобы восстановить способность заниматься математикой с разумной интенсивностью и производительностью. И иврит я не учил из-за этого, потому что времени практически не было.
─ Это общая проблема иммигрантов. Им приходиться одновременно решать массу трудных вещей, и все новые…
─ Ну да, но полгода-то я мог бы спокойно жить. Я бы даже зарплату получал. В Технионе готовы были для меня это делать. Но мне было неудобно, я стеснялся.
─ Советская ментальность.
─ Да, и потом декан, человек очень нетривиальный, как-то сказал мне: «Ты должен понять, что прежде всего должен делать то, что нужно тебе». Меня это поначалу страшно восхищало. Свободные люди, они могут себе позволить так жить и так говорить.
─ А потом я понял, что у части людей это действительно позиция, что это часть жизненной философии. Одна из причин разобщения израильского общества естественно связана с тем, что такая философия ─ урвать для себя ─ действительно укоренена в самых разных кругах, начиная от самых простых до академических. Где-то должен быть баланс между этой философией и интересами общества. Декан на самом деле мне пытался сказать что-то вроде – что же ты делаешь, поживи немного, вживись в эту жизнь и начнешь работать. Я много позже понял, что он собственно имел в виду.
─ Культурного шока не было?
─ Аньке, дочери, было сложно в школе, и связано это было с тем, что в этой школе учились дети из зажиточных семей, а мы жили в центре абсорбции. Нервно проходило… Отношения были сложными, но она хорошо закончила. Мне, я уже об этом говорил, было нелегко читать лекции после большого перерыва и в новой языковой среде. Первые полтора года я читал лекции по-английски. А потом перешел на иврит. Это было трудно. Я их полностью записывал. Я и сейчас пишу только по-русски, когда готовлю лекции, в основном для того, чтобы не забыть что-то сказать. Но шока как такового не было просто потому, что мне было некогда оглядываться по сторонам. При этом я должен сказать, что, несмотря на гонку, это были самые спокойные годы в моей жизни.
─ В каком смысле?
─ В смысле внутреннего состояния.
─ В России была раздвоенность и напряжение?
─ Конечно…
─ А до этого?
─ А до этого мне уже все было противно, от всего воротило. Здесь, к счастью, сложилось так, что не нужно было особенно думать, где взять деньги, чтобы что-то такое сделать. Это потрясающее состояние, его не было раньше. Есть здесь проблемы общего характера… интифада, экономика, но собственное состояние при этом, ощущение равновесия, его раньше не было.
─ Что для тебя означает твое еврейство?
─ То и означает, что я себя вполне комфортно чувствую евреем, не стесняюсь сказать кому бы то ни было, что я еврей.
─ А в России стеснялся?
─ Не то чтобы стеснялся и не то чтобы кричал на улице, но там и люди иногда неприятно реагировали на слово «еврей». Я родился евреем, при этом сказать, что я испытываю некоторое специальное волнение на эту тему, я не могу… это было, когда я приехал, это доставляло некоторое внутреннее волнение, а сейчас я не могу этого сказать ─ привык. Это мое естественное состояние, оно меня и не угнетает и не дает мне какой-то особой гордости, оно мое.
─ Ты бы предпочел, чтобы твои дети здесь росли, или тебе безразлично?
─ На этот вопрос однозначно ответить трудно. Я невысокого мнения об израильской системе школьного образования. И не только я. Вот моя внучка, Ася. Она способная и умная девочка, свободно говорит на четырех языках, но она немногому научилась в школе и ей, похоже, не слишком интересно учиться, хоть она и учится в очень хорошей школе ─ по израильским стандартам. При этом она чувствует себя очень комфортно. Ей такой Израиль общего вида очень подходит. У нее масса друзей. Может быть, после армии она пойдет в университет, но сейчас она об этом не много думает. Может быть ─ это потому, что я остался человеком, выросшим в той культуре, но я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что в израильском образовании и в израильском обществе создание стимула для образования должно как-то присутствовать. Поэтому однозначно ответить на твой вопрос я сейчас, к сожалению, не могу. Ася поучилась полгода в Англии, когда Дима (мой сын тоже профессор в Технионе) был на шабатоне* в Кембридже, и она получила за эти полгода много больше, чем она за эти полгода получила бы здесь. И я хотел бы, чтобы она доучилась там. Но ей и самой больше понравилось там учиться, ей самой, может быть, больше нравится некоторая требовательность со стороны школы. Я не знаю. Может быть, такая панибратская атмосфера… они с учителем равны, и объяснить им, что это недопустимо, было невозможно.
─ Это американская система.
─ Возможно.
─ Может, мы что-то в ней не понимаем, потому что по результату, по достижениям американцы, мягко говоря, вполне на уровне.
─ Я говорил об этом со многими американцами. Они такого же невысокого мнения о своей образовательной системе. С их точки зрения Америка ─ это страна антиинтеллектуальная в своей массе. Но Америка – большая страна, и она производит достаточно для заполнения всех необходимых слоев.
─ Или добирает на стороне.
─ И она может себе позволить добирать на стороне. Израиль не может себе этого позволить. На чисто личном уровне это большая беда. А на государственном…
─ Если подвести некоторый промежуточный итог, жизнь удалась?
─ В целом, пожалуй, да. Я понимаю, что если бы у меня в науке все шло без перерывов, то, наверное, я бы смог достигнуть большего и мог бы сделать вещи, которые сейчас уже сделать не могу, потому что созидательная сила убывает очень сильно, и с годами я это чувствую. Роза, хотя и не смогла вернуться к прежней профессии, хорошо работала до выхода на пенсию ─ в шерут таасука в Хайфе и, куда бы мы не пошли, встречаем людей, кому она помогла найти работу. Сын стоит на ногах достаточно твердо. С дочкой посложнее. Она тоже вполне сложившийся профессионал, переводчик (иврит, русский, английский, французский), но жизнь не без проблем.
─ Ты бы хотел что-то сказать следующим поколениям?
─ Ну? Я тебе скажу одну цитату из речи нашего школьного учителя. Это было на церемонии прощания с выпускниками. Он сказал: «Я хотел бы, чтобы вы были, как мы», – а потом посмотрел на нас и добавил: «Нет, лучше нас»… Так вот, пусть будут лучше нас. Им в некоторых отношениях труднее, чем нам — слишком много соблазнов, да и границы между добром и злом очерчены не столь четко…
─ Спасибо, Алик.